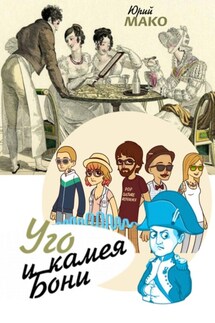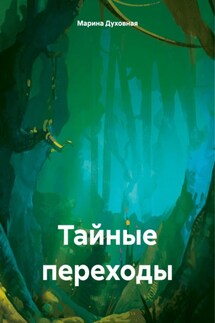Грани сна - страница 20
Лавр хлопнул себя по лбу:
– Девки! Совсем забыл! Ведь я гусли сделал!
Начался общий ор. Как это может быть, чтобы Великан, да гусли сделал?
– Да, сделал. И давно! Из сухого клёна, с жильными струнами. Отложил, чтобы сохло, и забыл. Замотался с делами этими… кузнечными. Сегодня опробую, раз праздник.
– А мы придём! – захлопала в ладоши Печора. – Покажешь?
– Приходите, чего уж. Но позже. Мы с ребятами ещё погуляем. А потом вам поиграю.
– Ой, Великан, а ты ещё и играть умеешь на гуслях?
Он засмеялся:
– И пою впридачу.
Мужское гульбище продолжалось с такой интенсивностью, что к полудню. на крики ни у кого уже не было сил. Прибрежные жители, которых практически тащил на себе Лавр-Великан, отправились домой, вниз, чуть не падая с ног. А там во дворе уже готовили стол на вечер. Выпили они ещё по глотку, и завалились спать на сеновал. Ни звонкие крики играющих во дворе детей, ни дым и запахи готовящейся еды не мешали им.
Наступило время баб: они готовили праздничный стол. В ход шли остатки от их же заготовительной деятельности, то, что не пойдёт в зиму. Капуста и огурцы, брюква, редька, репка пареная и яблочко печёное. Праздничная поговорка на Симарглов день: «Что в сусек не вместится, то в брюхо влезет». Пироги, рыба и птица, блюда тушёные и запечённые в горшках и чугунках, грибы. На столе уже вкусно пахла пшённая каша, заправленная солёным лимоном, который придал ей волшебный аромат и цвет, а на вертеле ждал огня уже подготовленный к процессу верчения заяц.
Первым с сеновала спустился Лавр. Обозрев стол, подумал, что в это древнее время живут гораздо лучше, чем будут жить позже, при пресловутом феодализме. Никого, кроме своей семьи, кормить не надо – ведь нет над ними жадного помещика. Ни барщины, ни оброка! Дань Вятко-князю невелика, в армию не забирают…
Юные члены семьи собирались гулять наверху, своей молодёжной компанией. Но узелки с едой им готовили всё же матери! И беспокоились, чтобы детишки, оставшись без присмотра, вели бы себя «хорошо».
Эту ситуацию Лавр тоже мог сравнивать с более поздними временами. Здесь не было жёстких христианских запретов и ограничений. Молодые легко сходились, и легко расставались. Главной ценностью были не безгрешность и страх перед богом, а продолжение рода. Проблема была в другом: практически все молодые «у нас, на Москве» были родичами! А плотские отношения между родичами не допускались, при обнаружении таковых – сразу плети, или пошёл вон из нашего городца. Специальные бабки держали в голове все родственные связи. Невест отдавали на сторону, а своим парням завозили девок со стороны. Свадьбы гуляли осенью, после Симарглова дня, или, как это называл про себя Лавр, «Праздника Урожая».
Трёх из пяти девиц, шедших сверху на застолье в честь бога Симаргла под предлогом «поглядеть на гусли» – их звали Жуйка, Котка и Любава, уже сосватали. То есть их родители, и родители женихов сговорились, и каждая невеста вплела себе в косу не одну, а две ленты, как знак своего нового статуса. Эти девы ожидали струга, который повезёт их в сопровождении мамаш вниз по Москве-реке, к месту её впадения в Оку, в крупный городец Вятич: оттуда их заберёт новая родня. Другие две – Печора и Гуляйка, пока вплетали в косы только по одной ленте, они были в ожидании.
Когда девы, пройдя южными воротами городца, зашагали сверху к их посёлку, туда как раз поднималась компания более молодых по сравнению с ними детишек Созыки и Бозыки, во главе с Чернявкой, которая не доросла ещё до брачного возраста и не вплетала в косу ни одной ленты. Сейчас она вообще шла «космачом», без косы. Встретившись на склоне, две молодёжные группы затеяли разговоры и смех. Услышав их, с сеновала спустились наконец проспавшиеся мужики. Созыка чувствовал себя хуже всех, и сразу со стоном припал к баклажке пива. А Лавр продолжал свои этнографические наблюдения.