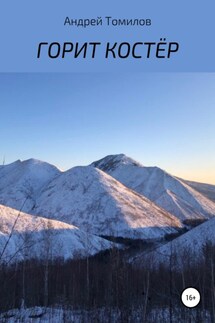Губернские очерки - страница 53
– А очень жаль, очень жаль, – говорит Порфирий Петрович, подходя к Марье Ивановне, – очень было бы приятно полюбоваться, как эти ангельчики…
Марья Ивановна готова уже дать знак клиенту, чтобы исполнить желание гостей, но Порфирий Петрович, сам испугавшийся своего успеха, прибавляет:
– Впрочем, это удовольствие еще не ушло от нас: в следующий понедельник…
– Ну, то-то же! – шепчет Василий Николаич, – а то проврался было, старик!
В соседней комнате карточные столы уже заняты, а в передней раздаются первые звуки вальса. Я спешу к княжне Анне Львовне, которая в это время как-то робко озирается, как будто ища кого-то в толпе. Я подозреваю, что глаза ее жаждут встретить чистенького чиновника Техоцкого,[44] и, уважая тревожное состояние ее сердца, почтительно останавливаюсь поодаль, в ожидании, покуда ей самой угодно будет заметить меня.
– Ah, c'est vous,[45] мсьё Щедрин? – говорит она наконец, подавляя вздох, созревший в ее груди.
И мы несемся как вихрь по зале.
Княжна вообще очень ко мне внимательна, и даже не прочь бы устроить из меня поверенного своих маленьких тайн, но не хочет сделать первый шаг, а я тоже не поддаюсь, зная, как тяжело быть поверенным непризнанных страданий и оскорбленных самолюбий. В этот вечер она как-то ожесточена, смеется лихорадочным смехом и все будто хочет о чем-то спросить меня, но не придумает, как это сделать. Я знаю, что она хочет спросить, почему нет в числе гостей Техоцкого; но я не объясняю ей истинных причин этого отсутствия, потому что это могло бы огорчить ее. Мне известно, что Техоцкий не приглашен Марьей Ивановной именно в пику княжне и в видах сохранения добрых нравов в городе Крутогорске.
– Помилуйте, – говорила мне сама Марья Ивановна, – ведь она такая exaltée,[46] пожалуй, еще на шею ему вешаться станет, а у меня дочери-девицы!
– Как вам кажется эта фантазия угощать произведениями своей домашней кухни? – спрашивает меня княжна, когда мы уселись с ней рядом в кадрили. Очевидно, что она намекает на выставку талантов, производившуюся перед открытием танцев.
– Вы знаете, княжна, – отвечаю я, – что я не имею никакого мнения на этот счет.
Но княжна, очевидно, меня не слушает.
– И заметьте, – продолжает она, – как все это самодовольно навязывается вам! и эта Клеопатра с своим маринованным голосом, и этот идиот Алексис, и нахальная Марья Ивановна…
Княжна слегка вздрагивает, произнося это ненавистное для нее имя.
– Вам начинать, – говорю я.
– А вы не знаете… – спрашивает она, когда мы сели на места, и вдруг останавливается.
– Что?
– Нет, так… я хотела, кажется, сказать какую-то глупость… вы не знаете, отчего здесь всегда пахнет скукой?
– Я опять-таки повторяю вам, княжна, что не имею здесь никакого мнения…
– Да, я и забыла, что вы человек осторожный… однако, в самом деле, вы не знаете, отчего…
И опять спотыкается, и неизвестно почему, мне вдруг становится ужасно жалко ее.
– …Здесь нет Техоцкого? – продолжает она, начиная третью фигуру.
В провинции лица умеют точно так же хорошо лгать, как и в столицах, и если бы кто посмотрел в нашу сторону, то никак не догадался бы, что в эту минуту разыгрывалась здесь одна из печальнейших драм, в которой действующими лицами являлись оскорбленная гордость и жгучее чувство любви, незаконно попранное, два главные двигателя всех действий человеческих.
– Бедная княжна! – повторяю я мысленно.
– Мы и позабыли позвать мсьё Техоцкого! – говорит Марья Ивановна, подходя к нам.