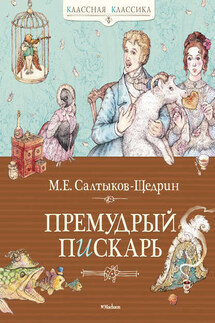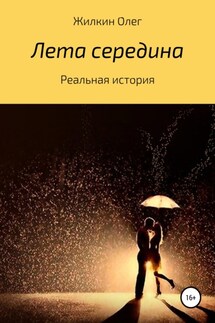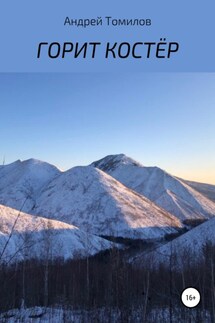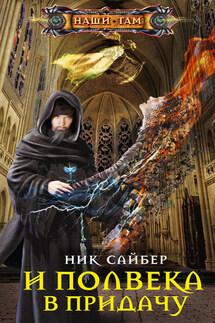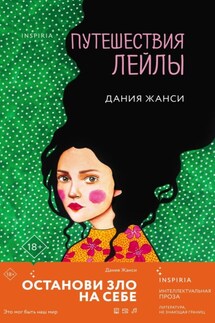Губернские очерки - страница 57
Есть люди, которые думают, что Палагея Ивановна благотворит по тщеславию, а не по внутреннему побуждению своей совести, и указывают в особенности на гласность, которая сопровождает ее добрые дела. Я, с своей стороны, искренно убежден, что это мнение самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ее милое, сияющее добродушием и искренностию лицо, чтоб убедиться, что этой свежей и светлой натуре противна всякая ложь, всякое притворство. Если все ее поступки гласны, то это потому, что в провинции вообще сохранение тайны – вещь материяльно невозможная, да и притом потребность благотворения не есть ли такая же присущая нам потребность, как и те движения сердца, которые мы всегда привыкли считать законными? Следовательно, и она так же, как эти последние, должна удовлетворяться совершенно естественно, без натяжек, без приготовлений, без задней мысли, по мере того как представляется случай, и Палагея Ивановна, по моему мнению, совершенно права, делая добро и тайно и открыто, как придется.
Я вообще чрезвычайно люблю наш прекрасный народ, и с уважением смотрю на свежие и благодушные типы, которыми кишит народная толпа. Конечно, мы с вами, мсьё Буеракин, или с вами, мсьё Озорник [33], слишком хорошо образованны, чтоб приходить в непосредственное соприкосновение с этими мужиками, от которых пахнет печеным хлебом или кислыми овчинами, но издали поглядеть на этих загорелых, коренастых чудаков мы готовы с удовольствием. Я даже с гордостью сознаюсь, что когда на театре автор выводит на первый план русского мужичка и рекомендует ему отхватать вприсядку или же, собрав на сцену достаточное число опрятно одетых девиц в телогреях, заставляет их оглашать воздух звуками русской песни, я чувствую, что в сердце моем делается внезапный прилив, а глаза застилаются туманом, хотя, конечно, в камаринской нет ничего унылого.
"Grands dieux,[49] – говорю я себе, выходя из театра, – как мы, однако ж, выросли, как возмужали! Давно ли русский мужичок, cet ours mal léche,[50] являлся на театральный помост за тем только, чтоб сказать слово «кормилец», «шея лебединая, брови соболиные», чтобы прокричать заветную фразу, вроде «идем!», «бежим!», или же отплясать где-то у воды [34] полуиспанский танец – и вот теперь он как ни в чем не бывало семенит ногами и кувыркается на самой авансцене и оглашает воздух неистовыми криками своей песни! Grands dieux! как мы выросли!"
Но я оставляю свои размышления до более удобного времени и продолжаю свое странствование по площади.
На бревнах, наваленных в одном углу ее, я вижу несколько странниц, севших для отдыха.
– Житье-то у нас больно неприглядное, Петровна, – говорит одна из них, пожилая женщина, – земля – тундра да болотина, хлеб не то родится, не то нет; семья большая, кормиться нечем… ты то посуди, отколь подать-то взять?.. Ну, Семен-от Иваныч и толкует: надо, говорит, выселяться будет…
– Поди, чай, старого-то места жалко? – спрашивает ее собеседница.
– Как не жалеть? известно, жалко! Кабы не нужда, так коли же от родителей без ума бежать!
– Да ноне чтой-то и везде жить некорыстно стало. Как старики-то порасскажут, так что в старину-то одного хлеба родилось! А ноне и земля-то словно родить перестала… Да и народ без християнства стал… Шли мы этта на богомолье, так по дороге-то не то чтоб тебе копеечку или хлебца, Христа ради, подать, а еще тебя норовят оборвать… всё больше по лесочкам и ночлежничали.