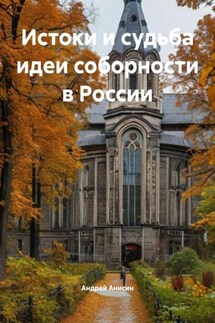Хайдеггер, «Черные тетради» и Россия (сборник) - страница 13
На следующей странице Хайдеггер усматривает телесность в «существовании человека», а не в «биологии животных», подразумевая, что «раса и потомство также должны быть поняты в этой связи, а не в представлении устаревшей либеральной биологии» (там же, 178). Не отказываясь от какой-либо мысли о расе, он намеревается обосновать последнюю в рамках собственной концепции существования, а не оставлять ее определение за дарвиновской биологией англо-саксонского происхождения, отвергаемой им в одной из своих работ того же периода, где он подверг критике нацистского писателя Гвидо Кольбенхейера[22]. Далее он уточняет, что постижение человека как существа «исторического» означает понимание того, что он «существует во взаимном сообществе исторического народа» (там же, 263). Как и в § 74 «Бытия и времени», но еще более настойчиво историческое Dasein означает существование не индивидуума, а именно объединенного в определенное сообщество народа и даже потомства и расы.
Если в курсе лекций зимы 1933–34 годов наконец эксплицитно поставлен вопрос «Кто есть человек?» и если отныне такое вопрошание заменяет вопрос «Что есть человек?», считавшийся Кантом направляющим для философии вопросом, то уже в следующем семестре Хайдеггер дает на него ответ. По правде говоря, он сначала переиначивает вопрос: вместо «Кто есть человек?» он вопрошает: «Кто есть мы сами?». И, на этот раз, отвечает: «“Мы” есть народ» (GA 38:39, 64, 56).
На этом он не останавливается. То, что Хайдеггер отныне называет Werfrage, взывает к народу самой постановкой вопроса. Как он поясняет, «здесь также, для того чтобы прийти к универсальному определению, мы должны задать вопрос не “Что есть народ?”, а “Кто есть этот народ, который есть мы сами?”». Это, как уточняет он, есть «вопрос, требующий принятия решения» (там же, 69). А дело здесь в том, что он далее называет «самоутверждением немецкой народной силы» (Selbstbehaupten der deutschen Volkskraft) (там же, 75).
Согласно «Критике чистого разума», три направляющих вопроса: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что мне позволено надеяться?» – встают перед каждой разумной личностью и касаются любого человека. Они предполагают принятие во внимание истории человечества, в которой можно найти соответствующие моральным принципам действия. Из «Логики» Канта известно, что к этим трем вопросам с ясно выраженным «космополитическим значением» добавляется четвертый – антропологический вопрос «Что есть человек?».
Однако еще в октябре 1931 года первая из опубликованных ЧТ открывается серией вопросов, по поводу которых можно сказать, что они подменяют собой вопросы Канта. С той разницей, что два исправления полностью поменяли его дух:
I. Прежде всего сама формулировка. Вместо второго вопроса Канта «Что я должен делать?» (Was soll ich thun?) появляется вопрос, поставленный Хайдеггером первым: «Что мы должны делать?» (Was sollen wir tun?). Таким образом, речь идет уже не о я, а о мы: то есть не о разумном индивидуальном сознании, а о некой бытийной совокупности – о сообществе.
II. За переменой очередности вопросов следует отмена одного из них. Более не упоминается первый направляющий вопрос философии по Канту, звучащий как «Что я могу знать?». Проблема знания не только не стоит на первом месте, но и вообще исчезает из направляющих вопросов философской мысли. Начиная с 1931 года на первое место выходит вопрос предписанного «нам» действия.