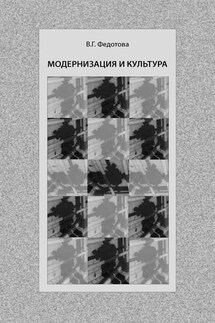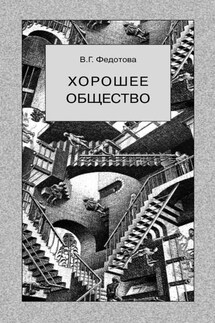Хорошее общество - страница 37
Пугающие провалы коммунизма и либерального десятилетия, победа завистливых и жадных над энтузиастами и энергичными, но моральными людьми, опасность новых поражений заставляет думать об антропологических проблемах. Почему удаются победы таких людей? Ответ, на мой взгляд, может содержать три аспекта: социокультурный, характеризующий исторически сложившиеся черты народа; антропологический, дающий характеристику людям; институциональный, в большей мере объясняющий, почему в обществе были поддержаны те, а не иные качества людей. Социокультурный аспект в России характеризует исторически сложившееся недоверие к праведности богатства или возможности получить его честным путем – посредством труда.
Антропологический аспект связан с доминированием в моральном сознании населения России чувства или идеи справедливости, недостижимость которой в силу вышеобозначенных социокультурных условий создает ее превращенные формы, а также отсутствие «серединной культуры», легкий переход из крайности в крайность.
Институциональный аспект состоит в организационной, правовой и моральной поддержке, а также поддержке на уровне общественного мнения наиболее конструктивных и позитивных проявлений в обществе, поддержке людей, которые не разрушают харизматические ожидания на стадии рутинизации до перехода их в свою противоположность. На институциональном уровне может быть обеспечено «совпадение социальных и психологических типов»>24. Выше уже были приведены примеры «избирательного сродства» черт этики протестантской секты и тех людей в миру, которые были склонны сами по себе к принятию сходной этики – аскетизма, бережливости, восприятия честности как надежного кредита, стремления заработать и отказаться от взгляда на жизнь как развлечение. Характеризуя совпадение социального, психологического, институционального и морального, А. Макинтайр указывает на особую значимость фигур директора публичных школ в Англии и профессора в Германии: они были «не просто социальными ролями: они были моральным фокусом для целой совокупности установок и позиций. Они смогли выполнить эти функции точно по той причине, что включали в себя моральные и метафизические теории и утверждения. Более того, эти теории и утверждения были довольно сложны, и значимость их роли и функции дебатировалась публично в рамках сообщества директоров публичных школ и в рамках сообщества профессоров»>25. Последнее замечание особенно важно. Оно подтверждает вышевысказанную мысль о действии харизматической и рутинизирующей фаз, о влиянии идей и вскрывает носителя светской харизмы – моральную интеллектуальную элиту.
В России XIX – начала XX века такую роль играли писатели. Их влияние на формирование общественно развитой чувственности сохранялось и в советский период. Литература призывала не только к следованию общественной морали, но и осознанному нравственному выбору. Писатели второй половины XX века поддержали слабые прежде традиции блуждания в психологических потемках и тенденции своеволия, за которыми не следовали моральные проблемы Ф.М. Достоевского. В 90-е большинство населения России перешло на чтиво, на дешевые во всех смыслах мыльные оперы и детективы «грубого помола». Исчезла та огромная аудитория, которая делала Россию Россией – самой читающей нацией, приверженной идеалам и пр. Отсутствие права и справедливости, являвшихся для Вебера также моральными категориями, обозначаемыми немецким словом «Recht»