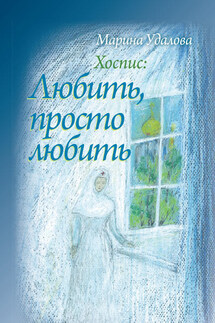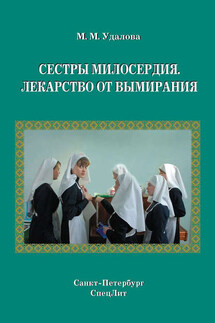Хоспис: любить, просто любить - страница 3
Наиболее остро вопрос о том, какими должны быть общины – светскими или церковными – встал вскоре после возвращения с Крымской войны Крестовоздвиженской общины и активно обсуждался именно в ее отношении в переписке главного врача общины Н.И. Пирогова с ее начальницей Е.М. Бакуниной. Пирогов тогда писал: «Я сам склоняюсь более в сторону нравственно-филантропического служения и думаю, что оно более соответствует духу и потребности нашего времени».[3] В результате победили гуманизм и «религия» человекопоклонства, на принципах которых работало Российское общество Красного Креста.
Устройством новых для России церковных общин сестер милосердия – образцовой Епархиальной Иоанно-Ильинской общины во Пскове (1868 год) и Владычне-Покровской в Москве (1869), занялась игуменья Серпуховского Владычнего монастыря мать Митрофания (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен), бывшая фрейлина императрицы Марии Александровны. При организации РОКК игуменья Митрофания возглавила в нем московский дамский комитет общины сестер милосердия, в который входили также м. Паисия, игуменья Московского Вознесенского монастыря, м. Илария, игуменья Алексеевскою монастыря и м. Антония, игуменья Страстного монастыря. По замыслу м. Митрофании, именно церковные общины сестер милосердия должны были возникнуть в каждом губернском городе, в каждой епархии и быть приписанными к местному женскому монастырю. Они имели вполне монашеский устав, монашествующую настоятельницу и часть сестер. Но такая форма общин в дальнейшем не получила должного развития – более активно новые общины возникали в светском ведомстве РОКК на началах туманно-патриотической идеи.
Еще одну и весьма удачную попытку предприняла св. вел. княгиня Елизавета Федоровна Романова, вдова вел. кн. Сергея Александровича, брата императора Александра III, создавая Марфо-Мариинскую обитель милосердия (1909). Будучи Попечительницей Московской Иверской и Петербургской Елизаветинской общин, она писала[4]: «Мне также не хотелось обращать обитель в обыкновенную общину сестер милосердия, так как, во-первых, там только одно медицинское дело, а другие виды даже не затронуты, и, во-вторых, в них нет церковной организации, и духовная жизнь на втором плане, тогда как должно быть совершенно наоборот». «Ее главной заботой стало устройство общины, в которой внутреннее духовное служение Богу органически соединено было бы с деятельным служением ближним во имя Христово. Это был совершенно новый тип организованной церковной благотворительности, поэтому он обратил на себя общее внимание. Великая княгиня не только хотела одушевить нашу благотворительность духом Евангелия, но и поставить ее под покров Церкви через то приблизить к последней постепенно самое наше общество… Быть не от мира сего и, однако, жить и действовать среди мира, чтобы преображать его – вот основание, на котором она хотела утвердить свою обитель».[5] Отвергая идею деятельного монашества, Елизавета Федоровна, жаждала восстановления древнего чина диаконисе, обращаясь к Николаю II (1912), она писала: «Мы просили о присвоении имени «диаконисе», что по-гречески означает «служительницы», то есть служительницы Церкви, чтобы сделать наше положение в стране более ясным: мы – организация Православной Церкви. Священный Синод почти единогласно поддержал наше предложение, это установление сочли совершенно приемлемым, в такой организации Церковь сейчас остро нуждается». Вопрос введения чина диаконисе был утвердительно решен Отделом церковной дисциплины 26 марта 1918 года на Поместном Соборе Православной Российской Церкви, однако соборного решения принять не успели…