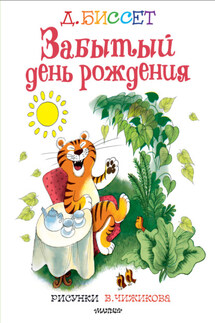Христианский целибат. Величие и нищета - страница 18
В последующих размышлениях мы как раз стремимся прояснить вопрос идентичности, вновь открывающей свое основание за пределами всякой специфики, как единственный путь ответа. Отсюда и его парадоксальность.
Идентичность и специфика
Целибат часто сразу же воспринимается как неотъемлемый признак «статуса», хотя теперь это происходит все реже, поскольку образ жизни менее определен, чем в традиционном обществе, и существует множество людей, живущих в одиночестве по другим причинам.
У целибата есть то преимущество, что он является элементом-границей. Решение не вступать в брак ясно подчеркивает отличие этого образа жизни от других. Если мы говорим о специфике целибата, ни один другой элемент не является столь очевидным. Бедность и послушание имеют градацию и, в свою очередь, зависят от многообразия путей посвященной Богу жизни. В целомудрии всегда и во всех случаях требуется полное воздержание.
Двусмысленность заключается в смешении элемента-границы с определяющим элементом и, что хуже всего, в желании установить идентичность этого призвания, исходя из отличающего его от других формального признака. Это обман и ловушка абстрактного мышления, отмечающего формальные различия и полагающего, что ему удается улавливать сущность. На мой взгляд, у богословия монашеской жизни давно уже связаны руки, потому что богословы пытаются прояснить специфическое, как если бы в нем был корень идентичности.
Идентичность вырастает не из специфики. Простой пример: женщина формально отличается от мужчины своим полом; однако ее женская идентичность основана не на этом. Пол – это только одна из составляющих ее личности, и если бы она пыталась идентифицировать себя, исходя лишь из сексуальных различий, это привело бы к пагубным последствиям. Наоборот (и в этом парадокс!), чем интенсивнее она будет проявлять себя как личность (в этом она не противостоит мужчине), тем скорее она сможет обрести и свою женскую идентичность.
Вот почему ключ к идентичности человека, живущего в целомудрии, – не в специфике целибата, а в христианском призвании к любви.
Историко-экзистенциальный аспект
Мне кажется, богословие посвященной Богу жизни лежит между двумя противоположными полюсами. Если оно проводит свои исследования, опираясь на противоположные элементы, то возникает ощущение поверхностности и неосновательности. Кто из живущих в целибате видит корень своего призвания в отказе от супружества, противопоставляющем его выбор выбору женатого человека? К сожалению, всегда существовала определенная ветвь в богословии, которая формально основывала наше призвание на отказе. А если искать суть в русле радикального подражания Иисусу, то призвание к посвященной Богу жизни просто совпадает с христианским призванием вообще. И тогда, странным образом, появляются симптомы отсутствия идентичности и создаются невыразительные формулы вроде: «следовать, будучи ближе», «особое подражание», «самое полное выражение крещальных обетов» и т. д.
Разве не было бы проще оставить в стороне вопрос о формальной специфике и, обратившись к богословскому размышлению, включить в него историко-экзистенциальный аспект? Что это означает?
Идентичность призвания человека, живущего в целибате, выражается в разных моментах (не хронологических, а имеющих богословскую основу), которые соответствуют разным уровням опыта и идентификации. Конечно, можно идентифицировать себя по своему выбору отказа от брака, но этот элемент-граница не является основополагающим. В противном случае человек сводил бы свой опыт призвания к чисто морально-юридическому содержанию. Поэтому идентичность призвания живущего в целомудрии человека как выбор образа жизни зависит от его харизматического опыта идентификации. Нелегко понять эту мысль, пока это абстрактное размышление, однако она становится совершенно ясна, если сосредоточиться на конкретном экзистенциальном уровне, присущем призванию, которое мы называем «посвященная Богу жизнь».