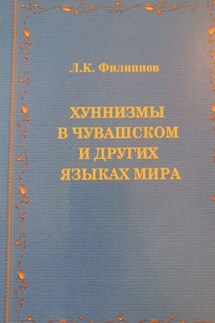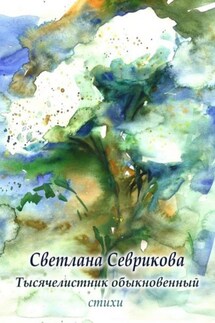Хуннизмы в чувашском и других языках мира - страница 7
Китайское шуй «вода; река» нельзя не сопоставить с чувашским словом шыв/шу – «вода; река». В других тюркских языках слово, обозначающее понятие «вода; река», как правило, начинается со звука [с] – ср., напр.: уйг., полов. су, алт. су, суг, тув., хак., шор. суғ, узб., кумык., ног., туркм. сув, кирг., к.-калп., карач. суу, уйг., азерб., тур., тат., казах. су, башк. hыу, якут. уу <суу [Егоров, 1964, с. 340; Федотов, 1996, т. 2, с. 465—466], древнетюркское suv/sub/suɣ «вода; река; влага; жидкость» [Древнетюркский словарь, 1969, с. 512—513, 515].
Полагают, что древнетюркский анлаутный [s] в чувашском языке перешёл в [š], как, например, в словах: др.-тюрк. sаγ «ум, сообразительность, сметливость» ~ чув. шохǎш/шухǎш, др.-тюрк. sipir «подметать, выметать» ~ чув. шǎпǎр, др.-тюрк. siŋir «жила» ~ чув. шǎнǎр и др. (примеры заимствованы из [Федотов, 1980, с. 121]). Тем не менее, не является ли звук [ш] в чувашском шыв/шу «вода; река» исконным? (Этим вопросом ещё в 1966 г. задавалась Л. С. Левитская – ведущий специалист по исторической фонетике чувашского языка [Левитская, 1966, с. 288].) Сопоставление чувашского слова шуй «вода; река» с китайским шуй «вода; река» даёт основание предположить, что анлаутный [ш] в чувашском шуй «вода; река» – исконный. (Этимологию чувашского слова шуй «вода; река» см. [Филиппов, 2012, с.146—154; Он же: 2014, с. 319—329].) Стало быть, древнетюркское suv/sub/suɣ «вода; река; влага; жидкость», как и тюркские су, суг, суғ, сув, суу – фонетический вариант слова, к которому восходит и чувашское шыв «вода; река».
Так на каком же языке говорили беглецы из Ся и дунху? Поскольку беглецы из Ся в большинстве своём были люди из рода-племени сы, логично допутить, что они говорили на языке своих предков, который, по всей вероятности, был китайского типа. О нём наука не располагает никакими сведениями.
Неизвестна и лингвистическая принадлежность племён группы дунху. По предположению О. Прицака (1919—2006; США, Канада), они общались на огуро-тюркском R-языке чувашского типа [цит. по: Егоров Н. И., 2011б, с. 49]. Но он – не тот тюркский язык, на котором изъяснялись древние тюрки, ибо они на исторической арене появились лишь в V в. н. э., тогда как дунху упоминаются в связи с событиями ещё второго тысячелетия до н. э. Справедливости ради его следует называть дунхуский (по аналогии: славяне – славянский язык, русские – русскийязык и т.д.), а не тюркский, древнетюркский. Так мы и поступим – историческую память необходимо уважать. Как увидим ниже, дунхуский язык был тюркского строя. Тот факт, что он образовался задолго до языка древних тюрок (древнетюркского языка), даёт основание называть его