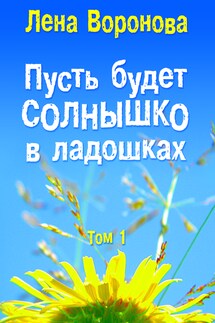…И в просвещении стать с веком наравне. Том I - страница 79
В последнее время в России много говорят и пишут о наших дореволюционных меценатах, их вкладе в отечественную культуру, забывая при этом, что сам феномен меценатства не был чем-то случайным или имманентно присущим купеческому сословию. В течение полувека пореформенного развития Россия эволюционировала, повышала свой культурный потенциал, превращаясь из страны деруновых и разуваевых в страну третьяковых, мамонтовых и рябушинских во многом благодаря общественно-педагогическому движению.
Ядро этого движения – российское учительство – не только систематически взывало к живой совести современников, но являло образцы бескорыстия, подвижничества, общественного энтузиазма. Учителя были настолько увлечены идеей возвращения «долга народу», из которого преимущественно вышли сами, что нередко превращались в заложников собственной страсти и мучеников собственной веры. В России никогда не обходилось без крайностей, но именно благодаря им она обрела свою самобытность.
Через общественно-педагогическое движение раскрылись новые черты российской интеллигенции как особой социальной прослойки, сформировавшейся не только и не столько благодаря общественному разделению труда, сколько за счет приверженности высоким социальным идеалам, готовности к самоотверженной и страстной борьбе за их воплощение. Феноменология российской интеллигенции, без которой нельзя в полной мере познать Россию и ее народ, привлекала внимание многих отечественных и зарубежных ученых [2]. Однако до сих пор она так и остается неразгаданным сфинксом. И если данная работа приблизит час его познания, то автор будет считать свою задачу решенной.
Противоборство передовых общественных сил и консервативного государства на ниве отечественного просвещения интересно не только с точки зрения социальной динамики, но и непосредственного влияния на школу и педагогику рассматриваемого периода. Являясь живой, растущей клеточкой общественного организма, российская школа находилась в центре многих происходивших в стране процессов, несла своеобразный генетический код общества: все лучшее, что имелось в российской действительности тех лет, и многое из того, что составляло ее негативные стороны, произрастало из школы [3]. «Понять систему образования данного общества, – утверждал известный русский философ С. И. Гессен, – значит понять строй его жизни» [4].
Первые попытки осмыслить состояние и тенденции развития школы и педагогики России на рубеже веков предприняли Г. Н. Генкель, М. И. Демков, С. А. Золотарев, П. Ф. Каптерев, А. П. Медведков, Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуский [5]. Развитие народного образования в стране они рассматривали как сложный противоречивый процесс, в основе которого лежали полярные интересы правительственной бюрократии и стремящегося к образованию народа. Критически анализируя государственную школьную политику, лишь немногие исследователи связывали надежды на оздоровление школьной жизни, на всеобщую грамотность с правительственными мерами. Большинство авторов видели в правительственной бюрократии лишь деструктивное начало, говорили о необходимости ликвидировать государственную монополию на образование. В литературе отмечались такие пороки правительственной бюрократии, как некомпетентность в вопросах образования, формализм, стремление к подавлению педагогической инициативы, усиленная идеологизация школьной жизни, равнодушие к нуждам народной школы и учительства.