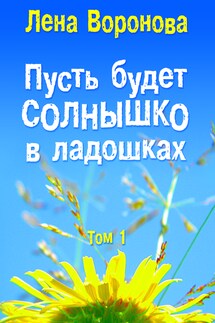…И в просвещении стать с веком наравне. Том I - страница 80
Дореволюционным исследователям принадлежит заслуга в определении решающей роли общественности, демократических институтов в подъеме культурного уровня народа. Высоко оценивалась земская деятельность в области образования, частная благотворительность, усилия рабочих просветительных организаций.
С победой Октябрьской революции и утверждением в стране вульгарно-социалистической идеологии плюрализм в оценке историко-педагогического процесса уступает место одностороннему классовому подходу. В работах Г. Е. Жураковского, Е. Н. Медынского, И. Ф. Свадковского, Г. Г. Шахвердова [6]) проявляется негативное отношение не только к школьной политике правительства, но и к бывшим союзникам пролетарской демократии по общественно-педагогическому движению. В 1920-1930-е гг. активно распространяется мысль о том, что революционный пролетариат и большевистская партия выступали единственными защитниками права трудящихся на образование, что вся просветительная деятельность либералов, а также не примыкавших к пролетарскому лагерю демократов была враждебна интересам народа, направлена на затушевывание социальных противоречий и на пособничество самодержавным порядкам. За партией и ее вождями признавалась исключительная роль в развитии социалистической педагогики – «высшего достижения мировой педагогической мысли». Отмежевание от позитивных оценок общедемократических (и тем более либеральных) движений становится непременным атрибутом историко-педагогических работ, критерием лояльности исследователей новому режиму.
В обстановке массового политического террора 1930—40-х гг., особенно с появлением сталинского «Краткого курса истории ВКП (б)» серьезное изучение истории отечественной школы и педагогики конца XIX – начала XX в. становится практически невозможным. Наблюдается резкий отход серьезных авторов от интересующей нас проблематики, обращение историков преимущественно к историческим сюжетам, которые в меньшей мере подвергались профилактической обработке идеологов-сталинистов. Проведенный Э. Д. Днепровым анализ публикаций по истории русской школы показывает, что если в 1918—1929 гг. было опубликовано 38 таких работ, то в 1930— 1939 гг. – только 12, в 1940—1949 гг. – 23 [7].
Прекратив на многие годы поиск генерирующих факторов развития школы и педагогики, исследователи сосредоточили внимание на частных проблемах, региональной тематике, на изучении биографий и творческого наследия видных педагогов. Были достигнуты известные успехи. Обращают на себя внимание работы А. Г. Вигдорова, Ш. И. Ганелина, Н. А. Константинова, В. Я. Струминского, Ф. Ф. Королева, К. И. Львова, А. Ф. Эфирова [8]. Построенные на обширном фактическом материале, они не только дополняли друг друга, но и в известной мере компенсировали отсутствие обобщающих историко-педагогичес-ких трудов вопреки спускавшимся установкам о том, что все дореволюционное является плохим и чуждым, раскрывали богатство и своеобразие прошлого педагогического опыта.
К сожалению, ни смерть И. В. Сталина, ни разоблачение на XX съезде КПСС идеологии и практики культа личности не привели к десталинизации историко-педагогических исследований. Ущербная идеология оказалась настолько живучей, что потребовалось более трех десятилетий для того, чтобы начался процесс общественного самоочищения. Подавляющее большинство историко-педагогических работ, опубликованных с середины 1950-х гг. и до конца 1980-х гг. и посвященных периоду капиталистического развития России, сохраняло на себе отпечаток сложившихся в сталинскую эпоху стереотипов. Преобладали работы, освещавшие просветительскую деятельность большевиков, участие учителей, учащихся и студенческой молодежи в революционном движении (свыше 20% общего количества публикаций). Многие работы указанного периода дублировали друг друга, носили поверхностный характер. «Классовый подход» к оценке историко-педагогических явлений, оставаясь преобладающим, уводил исследователей от изучения глубинных процессов, происходивших в сфере отечественного образования интересующего нас исторического периода.