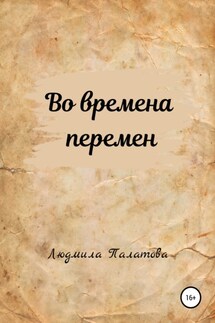Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга - страница 41
Среди теоретических трудов 20 в., посвященных обращению с символом, особое место занимает «Философия символических форм» Эрнста Кассирера. В своем подходе к понятию символа (см. например, работу «Проблема символа и ее положение в системе философии»[200]) Кассирер, с одной стороны, отмечает богатство и разнообразие применения этого понятия, а с другой – говорит о том, как трудно удержать это понятие в границах дефиниций. Переходя от философии религии к философии искусства, а затем к логике и истории науки, Кассирер обнаруживает, сколь значительна проблема символа для всех этих областей знания – но его универсальная значимость (Bedeutsamkeit) приобретается в том числе и за счет постоянного изменения значения (Bedeutungswandel). Символизация представляет собой процесс, в ходе которого символ может приобретать попеременно различные акценты: выражения, представления или значения (Ausdruck, Darstellung und Bedeutung). Ссылаясь на Фишера, который называет символ Протеем, меняющим свой облик, Кассирер отмечает, что понятие символа меняется в зависимости от того контекста (или той атмосферы, как говорит Кассирер), в котором он находится. Таким образом, само это понятие можно рассматривать как ключ к определению контекста, в котором он существует.
В религиозной сфере символ понимается в совершенно объективном смысле – это не метафора. Он представляет собой нечто непосредственно действительное и действенное (unmittelbar Wirkliches, unmittelbar Wirksames). Но в то же время символ – это мистерия, которой противостоит профанно-ясная реальность.
В эстетическом смысле символ, как отмечает Кассирер, наоборот, утрачивает свою вещную реальность – но зато на первый план выходит принадлежность к сфере идеального. «Во всей спекулятивной эстетике – от Плотина до Гегеля – понятие и проблема символического возникает именно в том пункте, где речь идет о том, чтобы определить соотношение мира чувственного и мира умопостигаемого, соотношение явления (Erscheinung) и идеи (Idee). Прекрасное по своей сути и необходимо является символом, именно потому и в той степени, в которой оно разделено в себе самом (in sich selbst gespalten), поскольку оно всегда и везде является единым и двойственным (weil es immer und überall eins und doppelt ist). И в этой своей двойственности, в этой привязанности к чувственному и выходе за пределы чувственного оно не только выражает напряжение, которое проходит через мир нашего сознания, но в этом и раскрывается исходная и основополагающая полярность самого бытия – диалектика, которая существует между конечным и бесконечным, между абсолютной идеей – и ее представлением и воплощением внутри мира единичного, эмпирически существующего (des empirisch Daseienden)».[201]
В поисках той единой нити, которая могла бы связать различные понимания символа в ходе развития этого понятия, Кассирер прибегает к примеру: предположим, перед нами некая кривая линия – мы можем воспринимать ее как некую оптическую структуру, пространственное построение.[202] Однако в процессе наблюдения и изучения мы открываем в этом построении структуру орнамента и можем рассматривать данную линию как эстетическую структуру, с которой связан определенный художественный смысл (künstlerischer Sinnn), определенная художественная значимость (Bedeutsamkeit). Но более того – орнамент представляет собой отрезок художественного языка, в котором мы узнаем