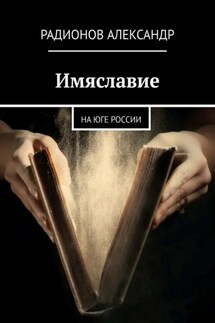Имяславие. На юге России - страница 5
Интерес к книге проявили афониты. Ведь она касалась главного монашеского делания – молитвы Иисусовой. Да и написал ее человек, которого на Афоне многие помнили, что подогревало интерес к прочтению50.
После ее прочтения, реакция на труд схимонаха Илариона оказалась положительной среди большей части братии, но были и те, кто этой книге был не рад.
Среди таковых оказался уже неоднократно упоминаемый духовник Свято-Пантелеимонового монастыря (на старом Афоне) Агафодор, у которого, по некоторым данным, к отцу Илариону (Домрачеву) были свои счеты. Антоний Булатович51 и иеромонах Паисий в связи с этим описывают одну и туже историю. Они говорят о некой прорицательнице Наталье из Санкт-Петербурга, слух о которой дошёл до Афона. Люди верили, что она напрямую говорит с Богоматерью и предсказывает будущее. Возвращаясь в Россию из паломнической поездки в Иерусалим (по версии иеромонаха Паисия – наоборот по дороге из России на Святую землю), пароход на котором плыла Наталия остановился у Афона, и Агафодор с братией подъехал к её пароходу и кланялся ей в ноги, «а некоторые даже лобызали ее руку. Каждому, давая ответы, Наталья прежде обращала взор свой в сторону на видимое ей одной лице Божией Матери и от лица Её открывала духовное состояние каждого. Например, об одном говорит: „Матерь Божия сказала: „Это раб мой““, а о другом: „Матерь Божия на тебя смотрит косо“, – и тому подобное говорила она каждому старцу, подходившему под ее благословение». Иеромонах Паисий отмечает, что все старцы, бывшие там, являлись ближайшими друзьями и товарищами отца Илариона. Из письма одного из них, по видимому, он и узнал в подробностях всё о вышеописанной встрече на пароходе.
Реакция отца Илариона была негативной. В прозорливой Наталии он увидел искушение нечистой силы и чтобы вразумить своих товарищей, он пишет им письмо, где увещевает, чтобы «они признали свое заблуждение, глубокое падение и принесли искреннее раскаяние пред Богом и пред лицом самой Божией Матери, величие и славу, и честь Которой святотатственно окрали и перенесли на диавола, и ему воздали поклонение»52. Братия признала ошибку и покаялась в совершенном грехе, а отец Иларион, желая предостеречь своих читателей от разного рода прорицателей, решил поместить написанное им на Афон письмо в свою книгу.
Письмо было отредактировано и не содержало в себе указаний на место действия и конкретных лиц. Однако, обнаружив это письмо в книге «На горах Кавказа», отец Агафодор отреагировал очень болезненно и задался целью изъять произведение из продажи. В 1908 году он послал один экземпляр игумену Андреевского скита Иерониму. Вместе с книгой он послал просьбу найти образованного инока, который мог бы провести критический анализ написанного. Игумен Иероним обратился к человеку, который затем станет знаковой фигурой этой истории – иеросхимонаху Андреевского скита Антонию (Булатовичу) с просьбой прочитать труд отца Илариона и высказать свое мнение. Восприняв книгу вначале негативно, он вскоре изменил свой взгляд и в итоге вернул игумену Иерониму книгу с заключением, что ничего плохого в ней нет, что все, что там изложено, написано в духе учения церкви, в духе учения святых отцов53.
Между тем отца Агафодора подобное заключение не устроило, и он нашел другого исполнителя своей просьбы. Он заказал схимонаху Ильинского скита о. Хрисанфу (Минаеву) написать рецензию. В книге рецензент обратил внимание на отношение о. Илариона к имени Бога: «Господь есть мысленное, духовное умосозерцательное существо, таково же и имя Его. (…) Имя Господа Иисус Христос нет возможности отделить от Его святейшего Лица»