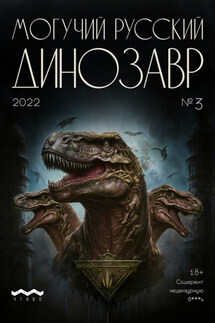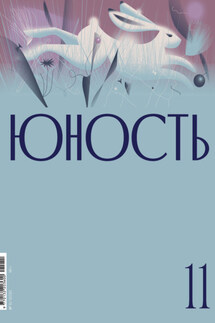Иностранная литература №03/2011 - страница 3
Если же говорить о переводе Алексея Цветкова в целом, то он хорош.
А. Ц. У меня замечание “в pendant”: помимо сценических интерпретаций, есть еще и кинематографические. Для меня очень важным примером такого рода была постановка Кеннета Брана, одна из самых несокращенных – протяженностью в четыре часа. И вот там есть интересная интерпретация монолога Гамлета: говоря, он (поскольку в кино сцены нет и зала нет) подходит к зеркалу. И там он практически шепчет. Это не мелодекламация, к которой мы привыкли, а такой вот шепот, и понятно, что мысль вытекает из головы и течет: “так”, да? Обрыв строки мне казался здесь просто очень неправильным.
А. Б. У меня тоже комментарий по поводу Кеннета Брана: с моей точки зрения, это один из самых пустых фильмов по этой пьесе, которые мне известны. Брана в этом фильме придумал массу занятных забавных деталей, включая ту, о которой вы сказали. Только вы не сказали еще об одной вещи. Ведь он шепчет монолог зеркалу, за которым прячется Клавдий, потому что зеркало одностороннее, и Клавдий видит его страшно близко. Придумано лихо, но эта куча замечательно придуманных деталей не должна заслонять самого главного: того, что в этом фильме нет Гамлета. Нет Гамлета потому, что Кеннет Брана – прирожденный Лаэрт, а тому, кто рожден Лаэртом, никогда не сыграть Гамлета. Брана со студенческих лет стремился сыграть Гамлета и с железной своей волей, отнюдь не гамлетовской, а лаэртовской, он эту идею пробивал. Он играл Гамлета в школе, он играл Гамлета в “Шекспировском театре”, потом сделал фильм по “Гамлету”. Но Лаэрт так и не стал Гамлетом. И мне кажется, что если видеть в этом фильме некоторый образец, то это не вполне удачный образец, а то, что он такой длинный, делает его довольно скучным.
С. Г. Теперь, наверное, время перейти к финальной части нашего собрания: вопросы нашим героям и, по возможности, ответы…
Николай Караев. Эстония, еженедельник “День за днем”.
Какой подход вы избирали в переводе, когда имели дело с какими-то вещами, которые уже вошли в русский язык на уровне фразеологизмов, вроде “На какой почве свихнулась? – На нашей, датской”, “Вся Дания – тюрьма” и т. п.? Вы их повторяли или искали какие-то свои пути?
А. Ц. Двоякий. Я их обычно игнорировал. Как мне казалось точнее, так я и переводил. Но когда я видел, что где-то есть совпадение, то к чему попусту версифицировать? Чтобы отличаться от Пастернака или Лозинского? Я не заглядывал в них, но какие-то вещи совпали, это естественно, это значит, что мы видели одно и то же.
Н. К. И второй вопрос. Как уже сказал ваш уважаемый оппонент, неизбежно возникнет ситуация, когда к вашему переводу будут придираться построчно. Вот из того, что я услышал, в финале монолога “Быть или не быть”, там “With this regard their currents turn away // And lose the name of actions…”, у вас “turn away” – “разбивается на струи”, это довольно своеобразная интерпретация. Я не прошу вас оправдываться, я хочу узнать, как вы будете реагировать на такие придирки вообще.
А. Ц. Естественно, если эти придирки будут адресованы в серьезной форме, я на них отвечу. Я не считаю свой перевод совершенным. Если кто-то сделает лучше, то выиграет от этого Шекспир. Моя задача состояла не в том, чтобы одолеть всех предыдущих переводчиков, а чтобы принести максимум от Шекспира современному русскому читателю и зрителю. Если мне это удалось – то это замечательно, в той мере, в какой мне это удалось. Если кому-то удастся лучше, я буду только счастлив.