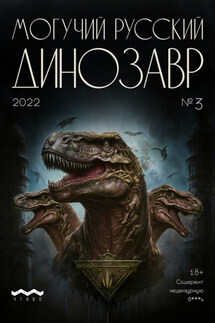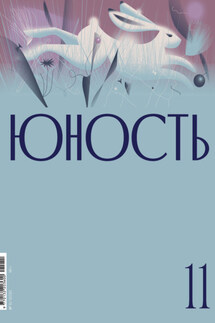Иностранная литература №03/2011 - страница 4
Н. К. А как же знаменитая максима, что “переводчик в поэзии – соперник”? Вы ощущали себя соперником Шекспира?
А. Ц. “Соперником Шекспира” – я даже не могу себе такого представить. Я атеист, но для меня если есть бог – то это Шекспир. Но мне казалось, что такой человек, как Пастернак, при всем к нему уважении, он, может, недостаточно понимал, с кем имеет дело, что это – неповторимое событие в истории человеческой культуры. Соперничество было в том смысле, что я думал – нужен более современный перевод и нужно избежать тех дефектов, которые были в предыдущих. Может, я своих нагромоздил… Кто-то следующий, кто будет переводить, будет иметь в виду мой перевод и как-то пинать меня.
А. Б. Где-то в конце семидесятых Осия Сорока сделал свой замечательный, потрясающий перевод “Короля Лира”. И вот я с большим энтузиазмом принес тогда своему учителю, Александру Аниксту, этот перевод, просто поразивший меня глубиной решения текста. Принес: “Вот! Появился! Новый замечательный перевод ‘Короля Лира’!” Александр Абрамович ответил тогда: “Какого ляда им еще нужно, когда есть Пастернак?” Я помню, как поражен был этой совершенно несвойственной Аниксту архаической позицией, это примерно то же самое, что сказать: “Зачем ставить ‘Три сестры’ после Немировича-Данченко?”, хотя никто не сомневается, что это был один из великих спектаклей XX века. Что касается Пастернака, то я не очень разделяю, Алексей, ваших взглядов – ни на его переводы, ни на его отношение к текстам. Но, к большому сожалению, Пастернак сделал многое, чтобы олитературить, выгладить свой перевод, при том что и в этом, выправленном, виде его перевод остался замечательным памятником русской культуры того времени. Но судить пастернаковского “Гамлета” надо по первому варианту этого перевода, который был сделан для Мейерхольда, по его заказу, Пикассо должен был быть художником постановки, Шостакович – композитором. Пастернак сделал перевод, но, когда он его сделал, уже не было ни театра Мейерхольда, ни самого Мейерхольда. Тогда Немирович-Данченко взял перевод и стал его репетировать…
С. Г. Я думаю, что не только вежливость велит нам поаплодировать. Спасибо большое.
Аплодисменты.
Галина Смоленская
Филипп Хенсло – первый театральный антрепренер
Искусство – прекрасное дитя в блистающих доспехах – выступит навстречу дракону коммерциализации и победит его.
Анри Ван де Вельде
© Галина Смоленская, 2011
Весной 1989 года во время строительства на южном берегу Темзы рабочие, рывшие котлован для очередного офиса, обнаружили превосходно сохранившийся фундамент здания шекспировской эпохи – театра “Роза”. Нетрудно представить себе восторг англичан, особенно историков театра. Эта находка стала поводом вспомнить еще один, чудом сохранившийся исторический памятник той эпохи, напрямую связанный с хозяином театра “Роза” Филиппом Хенсло. Его дневники, или правильнее было бы их назвать – счетные книги.
Театральный антрепренер Филипп Хенсло был дельцом не хуже и не лучше других. Он занимался всякого рода коммерцией и аферами, включая ростовщичество и владение публичными домами. Увидев, что театральное дело имеет большие перспективы, он почуял выгоду от создания театров на правом берегу Темзы и не ошибся.
Лондонский мост. Гравюра К. Дж. Фишера. Из серии “ВидыЛондона”. 1616 год.
В 1587 году он строит театр “Роза”, который сразу завоевывает симпатии публики. В нем выступает лучшая по тем временам труппа Лондона – “труппа лорда-адмирала” со знаменитым трагиком Эдуардом Алленом во главе.