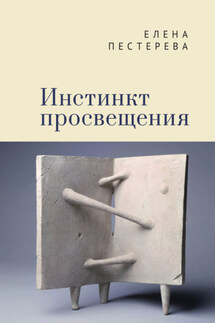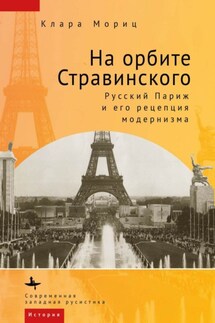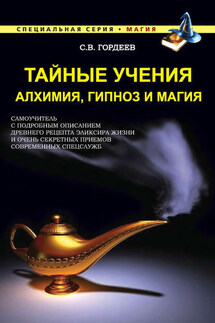Инстинкт просвещения - страница 5
Собственно, было бы славно, если бы все и всегда стремились к истине, разуму и добру. На том стоит мораль светская и религиозная, и моя частная ценностно-этическая система тоже на этом строится. Ничего принципиально нового я сейчас не говорю. Но видите ли…
Ряд гуманитарных наук знает понятие «тотальный объект» – такой объект, отношения с которым не определяются конкретными итерациями, а существуют как поле. Тотальным объектом для младенца выступают родители. А вот потом им может стать кто угодно, если субъект наделил его свойствами постоянства, власти, разума и т. д. В эту группу часто попадают воспитатель, учитель, семья, школа, страна, государственная дума, президент, медсестра, тренер йоги, психотерапевт, начальник, редактор. Сюда обязательно попадают священники, исповедники, духовные учителя. Сюда же попадают поэты и кинозвезды. То есть когда люди требуют от американского президента не спать с Моникой Левински, от Кирилла – снять золотые часы, от Харви Вайнштейна – не требовать сексуальных услуг, от Николая Некрасова – не набивать гвозди на облучок своей кареты (или что у него там было), они, по-своему, правы. Профессия критика впрямую связана с публичностью. Критик – тоже тотальный объект.
Да, человек слаб, хочет выглядеть умным и смелым, хочет секса и золотые часы. Да, никто никому не судья. Да, люди в любом случае разочаруются в нас (это неизбежно, если вдруг вы – тотальный объект для кого-то). Но выбрав этот путь, нужно понимать его риски и взятую на себя ответственность. Я хотела бы, чтобы, прежде чем говорить во весь голос, критик убеждался, что он находится на стороне истины, разума и света настолько, насколько в настоящий момент для него посильно. А потом отмерял еще раз.
«Новая юность», 6,2018
Контекст
Глава вторая,
о фестивальной жизни и поэзии
Гульбище бессмертных
Мы пили когда-то,теперь мы посуду сдаем…Олег Чухонцев
Нужно оговориться: анализировать текущий литературный процесс, оценивать успехи и провалы фестивального движения и степень его воздействия на процесс, рассуждать о том, хорошо ли нынче пишут молодые (старые) поэты в традиционной (авангардной) манере, добро ли слэмы или зло, полезно ли современным литераторам плавать в Черном море до «Октября» и обратно и пить водку на незнакомой местности или намного полезнее, а главное, дешевле было бы пить ее дома – нет никаких сил. Равно как и полемизировать всерьез с пятилетней давности статьями на фестивальную тему Аркадия Штыпеля и Леонида Костюкова в «Арионе»[1]. Безудержное ведение абстрактных споров – чудесное занятие, но оно требует соответствующего состояния разума и тела (и пиение водки на незнакомой местности в кругу современных литераторов располагает к этому несказанно).
Но вполне вдоволь сил говорить о поэтических фестивалях от первого лица. Сил на холивар о том, зазорно ли ездить на фестивали за свои, и зазорно ли – за чужие/государственные деньги, отчего одних всегда приглашают, а других – никогда, отчего тут оплачивают, а тут – нет, доколе нам все это терпеть, и не стыдно ли жить и не знать поэта NN – тоже нет. Но все же скажу: не знать – не стыдно. И ездить за свои – не зазорно. Насчет «за чужие» такой уверенности нет.
Фестивальная жизнь для меня началась с Нового Оскола, города в 20 тыс. жителей, градообразующим предприятием которого служит женская исправительная колония для несовершеннолетних.