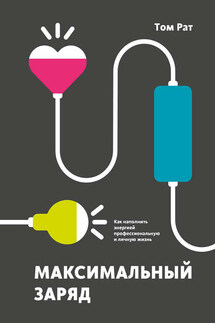Искусство допроса. Монография - страница 8
Но в просвещенной Европе все чаще и чаще стали высказываться мнения о необходимости запрета пыток.
Чезаре Беккариа, итальянский юрист, опубликовал в 1764г. «Очерк преступлений и наказаний», в котором утверждал, что пытки несправедливо наказывают невиновных и не должны использоваться для доказательства вины[24].
Вольтер (1694–1778) также яростно осуждал пытки в некоторых своих эссе.
В Англии суд присяжных предоставил значительную свободу в оценке доказательств и осуждении на основании косвенных доказательств, что сделало ненужными пытки для получения признательных показаний. По этой причине в Англии никогда не существовало упорядоченной системы судебных пыток, и их использование ограничивалось политическими делами.
Находясь в Египте, в 1798 г. Наполеон Бонапарт писал генерал-майору Бертье относительно действительности пыток как инструмента допроса: «Варварский обычай избивать людей, подозреваемых в том, что у них есть важные тайны, должен быть отменен. Всегда признавалось, что этот способ допроса мужчин, подвергая их пыткам, ничего не стоит. Бедные негодяи говорят что-то, что приходит им в голову, и то, что они думают, что следователь хочет знать…
Следовательно, главнокомандующий запрещает использование методов, противоречащих разуму и человечности»[25].
В 1638 г. Англия первой из европейских стран отменила пытки, столетиями служившие обычным средством дознания в ходе следствия по уголовным и другим делам.
За ней последовали и остальные европейские страны.
В России, так же как и на Западе, с целью получения показаний применялись пытки самых разных видов.
Когда дело касалось события, которое было общеизвестно, которое случилось перед глазами самого суда, всего мира, то, вероятно, никаких доказательств и не требовалось. Тут была очевидность, исключавшая возможность всякого опровержения. Точно такое же убеждение производили, кажется, некоторые вещественные доказательства преступления, например, раны, знамения (статья Русской правды о луже крови). Найденное у кого-нибудь поличное рождало такое подозрение в татьбе в отношении к лицу, у которого это поличное было опознано, что оно не иначе могло очистить себя, как сводом, т. е. указанием на того, от кого оно его получило.
Свод стоит в отыскании истцом надлежащего ответчика посредством закличи (объявление). В ст. 34–36 Русской правды (пространная редакция) устанавливалось, что: «34. Если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и он объявит о том на торгу, а после опознает пропажу в своем городе, то взять ему свое наличием, а за ущерб платить ему 3 гривны.
35. Если кто познает свое, что у него пропало или было украдено, или конь, или одежда, или скотина, то не говори тому <у кого пропажа обнаружена>: „Это мое“, но пойди на свод, где он взял, пусть сойдутся <участники сделки и выяснят>, кто виноват, на того и падет обвинение в краже; тогда истец возьмет свое, а что пропало вместе с этим, то ему виновный выплатит; если будет конокрад, то выдать его князю на изгнание; если вор, обокравший клеть, то ему платить 3 гривны.
36.О своде. Если будет <свод> в одном городе, то идти истцу до конца этого свода; если будет свод по <разным> землям, то идти ему до третьего свода; а в отношении наличной <краденой> вещи, то третьему <ответчику> деньгами платить за наличную вещь, а с наличной вещью идти до конца свода, а истец пусть ждет остального <из пропавшего>, а где обнаружат последнего <по своду>, то тому платить за все и штраф князю»