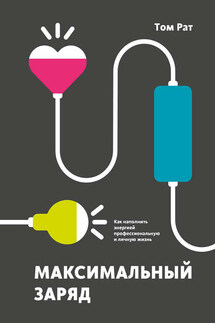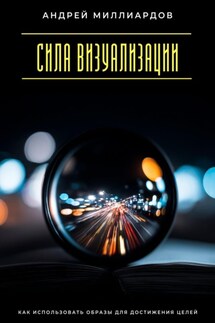Искусство допроса. Монография - страница 10
Послух должен быть свободный человек – «муж»; отсюда «послушествовать» и «мужевать» были синонимами (Рус. Пр., Кар. 99, ср. 77; Новг. судн. гр., 22). Но из этого допускалось прямое исключение: холопы высшего рода, именно дворские тиуны боярские (которые сами ведали суд в боярских вотчинах) и люди полусвободные – закупы – могут, по требованию необходимости (т. е. за недостатком послухов-мужей), быть признаны к послушеству (Кар. 77). Второе исключение состоит в том, что холоп всякого рода может быть допущен к послушеству в несобственном смысле, т. е. по словам холопа может быть начат процесс, но не окончен его показаниями; в самом процессе холоп не играет роли послуха, не принимает присяги (Кар. 99). Наконец, в Новг. судн. гр. постановляется, что «холоп на холопа послух» (Новг. судн. гр., 22), т. е. в исках против холопа послухом может быть выставлен холоп же.
Второе качество, требуемое от послуха, есть то, что он должен быть гражданин государства, а не иноземец (Новг. судн. гр., 22). Из этого начала делается необходимое исключение в исках граждан с иноземцами.
Наконец, из понятий о послухе, как муже, следует, что послухом не могла быть женщина.
Послух должен:
а) стать на суде: неявка его к суду ведет за собой потерю иска для стороны, его выставившей (Пск. судн. гр., 22);
б)подтвердить словесно все, что говорила сторона, выставившая его. Тождество показаний должно быть буквальное: «…слово противу слова» (Рус. Пр., Кар. 24). Если он не договорит или переговорит, то его послушество теряет всякое значение (Пск. судн. гр., 22). Формализм такого требования изъясняется значением показания послуха как высшего (безусловного) доказательства на суде и в свою очередь указывает на то, что послух вовсе не есть свидетель в нашем смысле слова[29].
Судебник 1550 г. положил конец «послушеству» и потребовал от свидетелей: «Не видев не послушевствовать, а видевши сказать правду».
Теперь для дел собственно уголовных, или так называемых губных, в которых государство считало себя непосредственно заинтересованным, возникла система судопроизводства чисто инквизиционная, которая в противоположность с прежним чисто обвинительным судом носит название розыска, сыска. Но как отыскать лихих людей? Как их обнаружить? Верховная власть для достижения этой цели прибегла к двум специфическим средствам получения вербальной информации: к повальному обыску и к пытке.
Повальный обыск – это тоже свидетельство, тоже получение вербальной информации, но свидетельство целой общины. Его мы встречаем в средневековой Германии. Оно является и в Англии под названием jurata. Из него в этой стране и выросло знаменитое учреждение присяжных.
Повальный обыск есть повинность, которую государство в видах благоустройства возложило на общины: выдавать государству на казнь всех ведомых лихих людей, злодеев. Повальный обыск существенно отличается и от старинного послушества, и от уголовного свидетельства под присягою; он был переходною ступенью от одного к другому.
Община, где жил подсудимый, его соседи, люди одного с ним сословия, могли знать о его характере, об образе его действий, о роде его занятий, о его поступках, получивших огласку, хороших или худых, хотя бы никто из них не был лично очевидцем этих поступков. Государство только и добивалось от них удостоверения, добрый ли человек обвиняемый или лихой. Против возможных ошибок оно старалось заручиться многочисленностью привлекаемых к обыску людей и страшными наказаниями, постигавшими их за утайку истины. Обыск шел на все четыре стороны версты по две, и по три, и по шести, и больше; допрашивалось сряду, а где по выбору, человек двадцать, пятьдесят, сто; запрещалось принимать показания от семей и заговоров, а за солгание или утайку ведомых лихих людей пятый или шестой из обыскных подвергались сечению кнутом.