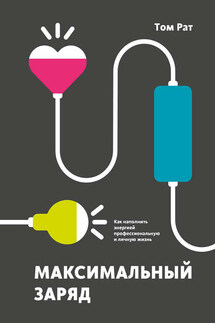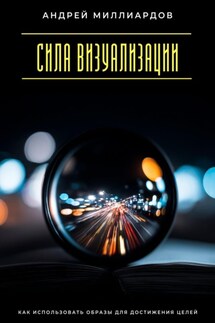Искусство допроса. Монография - страница 12
Безусловно, это были рекомендации тактического характера, и к тому же не лишенные оснований.
Петр Великий, придя к власти, будучи ярым приверженцем западного образа жизни, старается ограничить пытку, ставит ее применение только при недостатке иных доказательств, как то:
• добровольное признание;
• изобличение преступника достоверными свидетелями, которых должно быть не менее двух (последние не очевидцы не могут свидетельствовать по молве, по слуху);
• полудоказательства, при этом, как бы много ни было улик, все они вместе взятые не могут составить полного доказательства, но они важны тем, что их наличие предполагало использование пытки.
Пытка допускалась только при наличии трех обстоятельств: преступление очевидно, против обвиняемого есть полудоказательства, и он не сознается в совершении преступлении.
Для своего времени это была очень полезная действенная система доказательств, направленная на ограничение произвола судей, злоупотребления пыткой, но именно потому она, предполагая пытку, без нее становится бессмысленной.
В Российской империи пытки были отменены в 1801 г. в царствование Александра I.
Третий этап развития допроса (середина ХIХ в.– конец ХХ в.). На этом этапе учеными-юристами формируется и совершенствуется учение о допросе.
Радикальная судебная реформа 1864 г., выразившаяся в принятии четырех уставов, в том числе и Устава уголовного судопроизводства, взяла на вооружение теорию свободной оценки доказательств, отменив теорию формальных доказательств. Впервые в России был систематизирован порядок проведения следственных действий, в том числе и допроса.
В Кратких Наказах волостным и сельским начальникам по раскрытию преступлений и поимке преступников (1884) даются некоторые рекомендации по закреплению показаний в протоколах исходя из сложившейся жизненной ситуации. Так, в п. 12. указывалось, что «если заподозренный или кто-либо из свидетелей окажется тяжко больной, и можно полагать, что он умрет еще до прибытия судебного следователя, то его нужно расспросить при понятых и данное им показание записать; потом следует громко, вслух прочитать записанные показания при больном, который должен подписать его, а если не может, то за него должен расписаться тот, кого он попросит. Кроме того, такое показание должно быть подписано тем, кто его отбирал, и понятыми»[33].
На первых порах к свидетельским показаниям судьи относились с должным доверием, но в конце ХIХ в., в период обострения классовых противоречий, доверие к ним было поколеблено. Наблюдениями и опытами представителей экспериментальной психологии в юридической науке была разработана и обоснована частная теория, отрицающая доказательственное значение свидетельских показаний.
В результате этого в уголовном процессе были предприняты попытки уменьшить значение свидетельских показаний, подменить их «немыми свидетелями» (т. е. вещественными доказательствами) и так называемыми научными заключениями экспертов.
В дальнейшем вопрос о личности свидетелей, доказательственном значении свидетельских показаний и возможности их использования в уголовном процессе стал объектом продолжительных споров среди ученых.
С позиции исторического аспекта вопросы оценки личности в уголовном судопроизводстве возникали задолго до официального основания криминалистики как науки. Так, западногерманский криминалист, Л. фон Ягеманн, в 1838–1841гг. представил типологию допрашиваемых лиц по их личным особенностям в своем «Руководстве по судебному расследованию»