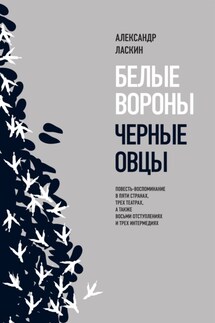Искусство прозы, а заодно и поэзии - страница 76
Словом, век человека лет до семидесяти, а если повезет, то чуть больше – вот, все это об этом: у нас времени, когда в кайф, очень мало, и всякий раз оно очень кратко. Ну, пока не отцвел каперс, пока этот каперс еще не сожрали. В маринованном, доступном виде. Сколько банок каперсов – столько историй и запиши, а нет: со всех на свете каперсов – только одна история. Другая, она с чего-нибудь следующего. См. «Жрать!», г-ну Рубинштейну, Льву.
Уже резюме: пир у Сорокина представлен в самом правильном смысле, как у Робинзона Крузо. Более того, это книга описаний кайфов, вовсе не выводимых из того, что можно сожрать. Не в варианте, то есть, крученыховского Рембо о том, что будем лопать камни-скалы. Это о том, что может оказать – уже оказало – резкое воздействие на совокупность наших индрий. Это есть то, что у нас есть, когда мы висим тенями. Или то, что нам поможет узнать себя тенью. Степень интимности данного голема чрезвычайно близка к границе приличия наблюдать за чужим счастьем.
Теперь последний вопрос: разнообразие рецепторов сорокинского голема выдуманное? Нет, тогда книги бы не было. А главное: смерть от отсутствия Невидимой Еды, как в «Лошадином Супе», что уже просто японский какой-то католицизм.
В нас (суммируя) попадает какая-то В Высшем Смысле Еда, и мы, исполнясь на миг благодатью узнавшего нас вкуса, всю жизнь только и делаем, что описываем, как ее имели. Как поняли разницу между благодатью «салата из любовных писем» и «шерстяного золота».
До того чтобы написать коллективный сабантуй хорошо проваренных самими собой самих себя (сверху – вот-вот июльская гроза, плюс тридцать) пассажиров кольцевой, сорокинский голем не добрался. Не солженицынский он потому что: тот бы непременно упомянул и лагерных в вечно-мерзлотной упаковке. Голему Сорокина социальный дискурс чужд – ему лишь бы просто побыть сколь угодно малое время пусть даже вареньем из пейджеров. В чем есть присущая уже самому Сорокину сильная (отчужденностью) человеческая художественность.
Исходная точка серии рецензий, заявленная в первом выпуске, проста: тексты пишет не человек. Просто потому, что их писать – значит заниматься только этим, не есть и не пить. Пишет их некая иная сущность, разумеется – подготовленная для этого самим автором. Воспитанная им для этого. Поскольку привычного названия у этой сущности нет – ну не называть же ее авторским эго, alter ego et cetera, или уж вообще вдохновением, я употреблял в прошлый раз эвфемизмы «агент письма», «пишущий аппарат автора» или даже «голем». Это, что ли, со зла, потому что эти сущности и чувствовать, и развиваться умеют; уж сорокинский-то – несомненно. То есть – это не големы в традиционном понимании термина. С настоящим големом встретимся сейчас.
Борис Акунин. Пелагия и черный монах: Роман. М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2001. 416 с. Отпечатано в Минске «Полиграфическим комбинатом имени Я. Коласа». Гигиеническое заключение # 77.99.14.953.П.12850.7.00 от 14.07.2000 г.
Еще одно технологическое отступление. Казалось бы, в данном случае мы имеем дело с наиболее полным проявлением пишущего голема: раз уж даже взят псевдоним. То есть нечто, что пишет внутри г-на Чхартишвили, выносится в мир и нарекается Борисом Акуниным.
А вот и нет; ситуация как бы усложняется (впрочем, только на первый взгляд): тут вбрасывается некий мистифицирующий посредник, уже от лица которого – тут, что ли, предполагается определенный психофизический артистизм самого автора – отправляется писать тексты кто-то еще, следующий.