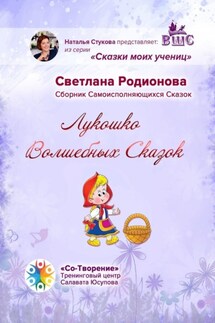Исповедь православного скептика, или Парадоксы религиозного просвещения - страница 11
Отсюда следует главный методологический вывод этой удивительной по замыслу, потрясающей по глубине понимания постановки и вызывающей восхищение по изяществу решения задачи:
«…Из всего сказанного не следует, что теперь Троица не является более тайной и для принятия этой тайны более не нужен подвиг веры. Просто теперь тайное сместилось туда, где оно и должно быть, – в сущность Бога.
Подвиг веры вовсе не нужен для принятия структурно-логического свойства Троицы – триединости…
…Остается лишь удивляться тому, что отцы Церкви сумели сформулировать эту совокупность свойств, не имея возможности опираться на математику.
Они совершенно справедливо называли любые отклонения от этой совокупности ересями, как бы ощущая внутренним зрением их разрушительную пагубность.
Лишь сегодня становится понятным величие отцов Церкви и в смысле интуитивного создания безупречной логики триединости»
Попытайтесь найти и назвать имя кого либо, кто смог за последние полторы тысячи лет, прошедших с момента принятия Никео-Константиноаольского Символа веры внести больший вкладв укрепление доверия христианской религиозной доктрине, доказав реальность и как следствие справедливость одного из главных ее постулатов (догматов).
Убежден в том, что Вам это не удастся.
А ведь это сделал не представитель священничества, духовенства или догматического христианского богословия.
Это сделал ученый (а значит по определению – скептик), рядовой мирской православный христианин.
Нужны ли еще доказательства, подтверждающие объективную необходимость скептического образа мышления в развитии христианской религиозной доктрины.
Но вернемся к основному предмету данной главы – пониманию религиозной веры.
1.2. О надежде
То, что вера в Бога – это ее иррациональный образ не вызывает малейших сомнений.
Но что заставляет нас верить и какие надежды мы связываем с верой в Создателя.
Уверен, что каждый верующий, любой религии или учения не раз задумывался и задавался этим вопросом.
Эту (основную) причину феномена веры в Бога очень метко подметил директор отделения по исследованиям в области аномальной психологии в Британском колледже Голдсмита – Кристофер Френч:
«У нас есть вполне понятная естественная потребностьверить в то, что мы переживаем физическую смерть и воссоединимся с любимыми людьми, с которыми расстались.
Таким образом, все, что подтверждает эту идею, будь то реинкарнация, медиумы, духи, является доказательством в пользу бессмертия души.
Это нечто, в правдивость которого нам всем очень хочется верить».
Убежден в том, что мало у кого могут возникнуть сомнения в справедливости данного утверждения.
Понятно почему мы веруем, но на что мы надеемся в своей вере.
Ответ для всех лежит на поверхности.
Ведь не даром мы говорим, что верим в Бога и надеемся на жизнь после смерти – бессмертие.
Но надежда является не только движущей силой, которая рождает у нас конкретное желание действовать, обратившись к вере.
Для всех христиан вера, надежда и любовь – это те три добродетели, которые открывают путь к бессмертию.
Общую для всех христиан отправную точку в разработке учения об этих трёх добродетелях дал еще в VI веке Григорий Великий (папа римский Григорий I, почитаемый в православии как Григорий Двоеслов).
Веру, надежду и любовь он считал основанием и источником всех остальных добродетелей, без которых невозможно достичь спасения и вечной жизни [14]: