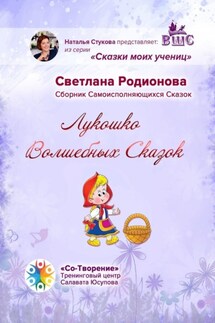Исповедь православного скептика, или Парадоксы религиозного просвещения - страница 12
«Добродетель как фундаментальная философско-богословская категория, охватывает все ценностно-значимые аспекты
На протяжении всей истории христианской мысли учение о добродетели постоянно развивалось; многие богословы развёртывали своё видение состава этой комплексной категории, сами эти составляющие неоднократно переосмысливались.
Понятие теологической добродетели – фрагмент этого цельного учения, фокусирующий внимание на «трёх добродетелях», поставленных в контекст спасения человека в богословском смысле».
Но теологическая оценка полноты и обоснованности «трех добродетелей» как основы христианского богословского учения о спасении не может являться сферой дискуссий и споров простых верующих мирян.
В длящихся столетиями богословских дискуссиях и спорах об источниках возникновения веры оппоненты вряд ли достигнут консенсуса, оставаясь с большой вероятностью на своей исходной точке зрения.
Но скорее всего все они согласятся с утверждением о том что вера не является неизменным, стабильным состоянием в продолжении периода нашей мирской жизни.
Хотя большинству из них не хотелось бы чтобы это было именно так.
Но реальность свидетельствует об обратном.
Ведь в глубине души каждого (даже самого убежденного) верующего не может не присутствовать толика (пускай даже крошечная) сомнений, поскольку доказать существование Бога, как и его отсутствие невозможно.
И в те моменты, когда наша вера испытывает сомнения, а наш разум искушения в ее истинности, ей на помощь приходит именнонадежда.
Несмотря на то, что в мирской практике обсуждения религиозных вопросов надежда постоянно остается как бы в тени своей старшей «сестры» веры, в христианском богословии надежда – следующая (вторая) из ступеней лестницы духовного роста (у которой первая ступень – вера), по которой восходят к Богу.
При этом «если в настоящей жизни эти три добродетели равны между собой; то „в жизни будущего века“ любовь окажется больше веры и надежды, ибо последние „прейдут“, и останется лишь любовь».
Еще раз акцентирую внимание на том, что теологическая интерпретация христианского (православного) богословского учения о «трех добродетелях» не является предметом обсуждения в данной работе.
Нас интересует исключительно понимание надежды как «положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряжённом ожидании исполнения желаемого и предвосхищающая возможность его свершения; философский, религиозный и культурный концепт, связанный с осмыслением состояния человека, переживающего этот эмоциональный процесс» [15].
Именно «напряженное ожидание» бессмертия как конечного итога движения путем ко спасению, обозначенному той, или иной религией, и есть тот неиссякаемый источник духовной энергии, обеспечивающий как постоянство (неизменность) ее иррационального образа (веру в Бога) так и доверие избранной религиозной доктрине.
Если мы воспринимаем веру как сформировавшееся представление о возможности наступления того, или иного события, то надежда, это скорее чувственная подпитка его (этого события) ожидания.
С этой точки зпения мне представляется удачной для понимания отношения вера/надежда аналогия, приведенная в [16]:
«Надежда – это подойти к реке с желанием ее переплыть, сесть на бережок и сказать: «Возможно, я ее и переплыву когда-нибудь…».
А вера – это когда ты подошел к реке, зашел в воду и поплыл.
Чувствуете разницу?
Вера – это действие!