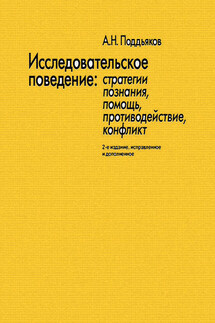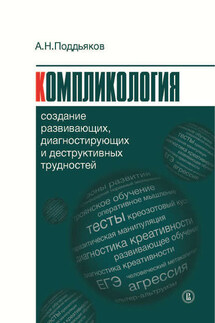Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт - страница 29
От лапласовского детерминизма достаточно трудно отойти современному человеку. Еще в школе он усвоил в качестве образца научных знаний механику по Ньютону и геометрию по Эвклиду. Затем он стал свидетелем действительно потрясающего триумфа технологий, построенных на программах и алгоритмах, чье основное свойство – детерминированность. Причем это детерминированность механистического, по сути, типа. (Доказано, что любой алгоритм может быть реализован механическим устройством.) Но, как пишут А. и Б. Стругацкие [1989, с. 526], массовый человек не заметил замечательных открытий современности – ни великой теоремы Геделя, ни возникновения синергетики.
При этом даже тем, кто заметил и пытается в этом разобраться, может оказаться чрезвычайно трудно преодолеть «иллюзию универсального» и понять, принять, смириться с мыслью об определенных принципиальных ограничениях познания и практики. «Человек может все!» – это оптимистическое убеждение служило и служит стимулом величайших свершений. В истории науки достаточно примеров, когда общепризнанные в научном сообществе утверждения «это невозможно, этого не может быть» становились смешным анахронизмом, будучи опровергнуты гениальным ученым или небольшой группой. Но тогда может ли добросовестный современный читатель – не специалист по указанным проблемам – поверить в доказанную принципиальную невозможность, например, прогноза погоды на определенный срок или же в невозможность узнать и координату, и скорость микрочастицы одновременно? Или же он вправе считать, что на самом деле если хорошо подумать и постараться изобрести более точные методы, изготовить более точные приборы, то эти запреты удастся обойти?
Учитывая возможность такого рода сомнений, мы считаем психологически очень правильным, что специалисты в данной области Г. Г. Малинецкий и А. Б. Потапов [1998] в статье, предназначенной для научно-популярного журнала и адресованной массовому читателю, сравнивают невозможность выхода за горизонт прогноза с невозможностью создания вечного двигателя. Невозможность вечного двигателя уже стала достоянием массового сознания – люди уже в основном поверили в его невозможность или, по крайней мере, в бессмысленность попыток его построить, что тоже немаловажно с точки зрения экономии времени и сил. (При этом мы согласны с утверждением А. и Б. Стругацких [1989, с. 523–525], что характерным свойством современной массовой психологии является противоречие между верой в науку и одновременной верой в псевдочудеса, наукой отрицаемые. Поэтому мы допускаем, что не так уж много людей засомневалось бы, если бы узнало из авторитетного источника, что прорыв, наконец, сделан и вечный двигатель создан – на основе соединения древних эзотерических техник, современных научных супертехнологий и с помощью сохранившихся наскальных инструкций от пришельцев из космоса.)
Мы не случайно используем в этих рассуждениях о психологических трудностях преодоления иллюзии универсального термины «убеждение», «вера» и т. п. Мы согласны с классиками диалектического материализма в том, что в конечном счете ответ человека на научные вопросы такого уровня связан с его базовыми, наиболее устойчивыми философско-мировоззренческими взглядами и убеждениями, касающимися устройства мира и его познаваемости. Если человек верит, убежден в том, что в мире действует единое познаваемое начало (независимо от того, что под ним понимается), что мир – это пирамида все более конкретных инвариантов, выводимых из первого, генетически исходного, универсального, то, вероятно, он не примет мысль о существенной, а в ряде случаев решающей роли принципиально неустранимой неопределенности, неполноты, неразрешимости и т. п. Даже убедившись и согласившись с правильностью доказательства алгоритмической неразрешимости той или иной проблемы, он будет считать это частностью, которой можно пренебречь по сравнению с господством инвариантного, универсального, выводимого – господством изначальным или же таким, которое должно быть и будет достигнуто, если только приложить голову и руки. В его системе убеждений принцип динамики существенного, даже в случае частичного признания, всегда будет занимать подчиненное место по сравнению с принципом неизменности существенного: он будет считать, что всегда можно найти инвариант – неизменную сущность этой динамики. Аргументация Ю. М. Лотмана о неустранимой «дефектности» любой неизменной, то есть статичной, модели динамического, не будет принята этим человеком, поскольку данный дефект, даже в случае его признания, будет рассматриваться как несущественный.