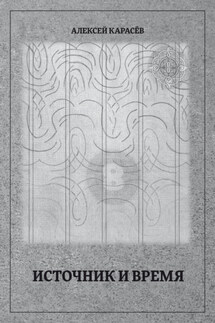Источник и время - страница 41
Когда помещён был человек в условия и окружён ими, когда выброшен он был промахом своим на поприще скорбной лжи, дабы изжить жизнью и избыть избытком там, где предназначено ему быть по делам его, не обратил ли он это условие – в слово своё, в торжество ложного, презрев на исходное и не обретя себя в нём? Условность начинается там, где твоё место – не твоё, где наступает реакция пустоты, её утверждение; где избыток обращается в множество, не вмещает самого себя, не справляется о самом себе и разрушается в невозможности себя самого. – И нет места в месте… А условия… – Сегодня они человеческие, завтра они не человеческие, – вот и вся недолга в этом расползающемся и рыхлеющем мире. Вот и все слова – в беспомощности и от беспомощности, ежели беспомощность эта – бессильна.
И порой кажется, что правда – это единственное, что может не нравиться по-настоящему. Но при всём при этом правда в адвокатах не нуждается. В адвокатах нуждается ложь – прямо или опосредованно, так как ложь очень нуждается в правде. – Но и это не как боязнь для будущего, а как возвращение к прошлому и обретение его…
Постепенно место заполнялось, день становился всё более солнечным и тёплым. Прозрачный осенний воздух – менее обволакивающий, но более вмещающий – определённее отзывался людскими голосами, сливающимися в едином звучании с голосами зверей и птиц, населяющих и это невеликое место. – Место, некогда бывшее, но переставшее быть близким, становящееся близким вновь и говорящее со своими обитателями на всё таком же особом языке – по-своему, по-детски, от малого и родного, вне общего и чуждого, облекая и подводя, отдавая и возвращая, ничего не беря и всё образуя. – Всё, что готово было вернуться и быть своим.
Алексей Аркадьевич уловил это лёгкое движение воздуха, тёплое и причастное, – вроде как не расставание даже, а напутствие памяти. – Той памяти сердца, что сильней рассудка памяти печальной[2], – соучастия к удаляющемуся и даже забытому по немощи и нерадивости, или просто беспечности, которая способна убить (и убивает), но разбивается о милость и обращается в избыток. – До поры до времени, конечно, – но всё же… И на всякие идеальные, даже математические, модели, которые, наверное, позволяют и способствуют определению места, ориентации его в пространстве и даже расчёту, существует эта милость, о которую они с успехом и разбиваются, дабы ещё и ещё раз чудесным образом мобилизовать те разрозненные, перемещённые остатки человеческого и утвердить их именно там, где необходимо. – И жить дальше, имея место в месте и новую попытку себя самого.
Костя с Катей ещё летали и перекликались – ранние пташки, проснувшиеся для бодрствования и вкусившие его. Но они всё чаще смотрели на деда и вскоре уже не отходили от него. Может быть, они просто устали, но это было теперь не важно. И даже катание на пони вышло как прощание – «оформленное окончание» действия, утверждение и признание его в целостности и определённости, неотъемлемости и единстве со всем, что будет потом.
«А экзотики что-то совсем не получилось, – мелькнуло у Алексея Аркадьевича. – Вот только ворона и медведь». – Он улыбнулся и посмотрел на внуков. Но те уже уставились на него и молча ждали его решения.
– Ну, что? Пошли?
Костя с Катюшей, как по команде, кивнули.
– Тогда пошли…
Через несколько минут они уже были на выходе.
Часть третья
Тунгусский рубеж