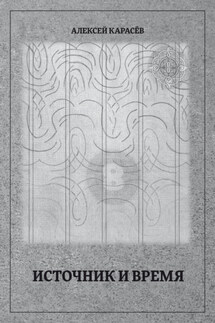Источник и время - страница 48
– А он не математик случайно? – поинтересовался Осмоловский.
– Нет, скорее историк, – улыбнулся Григорий Елисеевич.
Сотников пригласил было их в дом, но Чипизубов, сославшись на обстоятельства, предложил перенести «на попозже». С тем и разошлись.
Всю дальнейшую дорогу мысли Осмоловского крутились где-то рядом с вышеозвученным «скорее историк», и добродушная улыбка Сотникова вдруг коснулась и его губ. А тут ещё этот «скорее историк» вышел навстречу с ватагой ребят. И уже после короткого приветствия и пары добрососедских фраз за жизнь Осмоловский, глядя вслед удаляющимся, про себя всё же отметил: «а вот я, наверное, даже сейчас пошёл бы в математики. Но это по обязанности. А «скорее историк» – это вроде как само собой разумеющееся, а потому безусловное, как бы это, на первый взгляд, ни показалось странным».
На возвышенных приполярных широтах солнце, кажется, угнетается не только своим положением относительно горизонта, но и каким-то созвучным, молчаливым согласием. – Так что было бы прям-таки нелепо, ежели было бы как-то иначе. В этой симфонии силы и немочи угадывается неведомый человеческому существу промысел, заставляющий подниматься и смотреть, подниматься и слушать, дабы, ослепнув и оглохнув – скорее от отсутствия, нежели от изобилия, – вплотную подойти к избытку. – Имея, а не пытаясь иметь, вкушая, а не стремясь ко вкусу; слышать не вслушиваясь, видеть не всматриваясь, и выражать собой всю полноту слова, ничего при этом не говоря… – И приблизившись, вновь рухнуть и возжелать тёплого солнечного света, тёплой родной земли, уютного крова и приятельского человеческого общения; и испытывать потребность в близких, и печалиться, когда ничего этого нет, когда недостаёт тепла, когда нет рядом любимого человека. – И утешаться мыслью о нём, и иметь, не имея, и умиляться в потребности. – И потянет в тёплые края, так как там всё это ближе и доступнее. Но и там есть, где спрятаться. – В пустыне. – Будто от теплового удара спасает только изнуряющая жара.
Кажется, что не может быть у солдата на поле брани друга не солдата. На поле брани друг не солдат – балласт. Это горько, но это, похоже, та правда, что позволяет держаться и побеждать. Отсюда и дистанция, и уединение. И это от жизни. По крайней мере, так кажется, ибо тогда каков же смысл победы и каково единение?
Чипизубову было одиннадцать, когда началась война. И уже в столь зрелом возрасте он всё больше сопрягался с мыслью, что новое – это хорошо испорченное старое. Всё чаще на память приходил образ учителя – на самой восходящей заре жизни, – что совершенно обыкновенным делом мог взять тебя за ухо и отвести в сторону.
И оставить там за неуместно вылетевшее слово – в вопиющем одиночестве, пусть даже и у всех на виду. – В оглушительной пустоте, звенящей и доходчивой, без права двинуться с места и как-то обозначить себя.
Потом, несколько позже, уже во времена студенческой юности, он познакомился с одним человеком – Петром Козачевым, – который, впрочем, и остался «одним человеком» на всю последующую жизнь. – По форме и обособленности, и по особому свойству памяти, что выделяет всё, не спрашивая и не оценивая ничего.
Пётр был старше, но не так чтобы очень, а, скорее, ровесник поопытней. В общем, – почти как в песне, – «не на отчество постарше, но на войну помоложе».
Вспомнилось, как судорожно вышагивал он по комнате – взад-вперёд, взад-вперёд, периодически будто выкладывая слово на руки; смотрел на него, прикидывал на вес, пробовал на жёсткость. После прикладывал руки к голове, будто возвращая обратно, и снова ходил взад-вперёд. Стрелки часов отсчитывали ночные часы, за окном намечался рассвет. Он усаживался за стол, снова выкатывал слово, снова прикидывал и сжимал, клал на крышку стола, опускал руки, уставясь вперёд, что-то складывая и вычитая. Опять брал в руки, прикладывал к голове, продолжая сидеть уже почти неподвижно. Брал папиросу, курил, гася подступившее и не отступающее беспокойство. Брал чайник и выходил в коридор, возвращался с кипятком и заваривал чай. Наполнив кружку, прихлёбывал и стоял над столом, уставясь в его крышку. Снова отхлёбывал, ставил на стол и снова ходил – взад-вперёд, взад-вперёд.