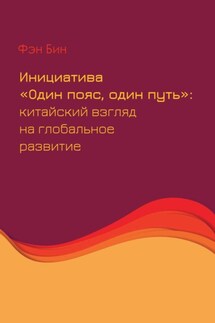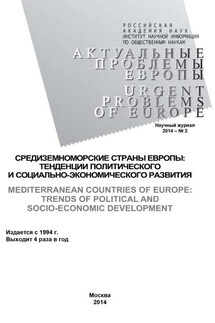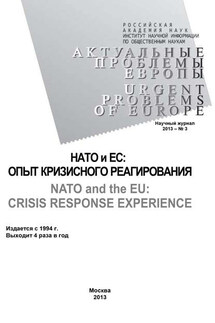Истоки американо-китайских отношений - страница 38
История свидетельствует о том, что этот процесс занял по крайней мере двести лет. Даже само понимание того, что китайцы – составная равноправная, а не главенствующая часть человечества, не «высшая раса» или «главная, центральная нация», приходит медленно, а реальное строительство корабля, равного и равноправного, сознательно согласного стать составной частью единого флота человечества, еще не началось; это время еще не пришло.
Из наблюдений Маккартни также следовало, что упадок Китая, ослабление Китая – это не результат давления или воздействия иностранцев на Китай, а это следствие развития событий в самом Китае, следствие его специфики или самобытности, его исключительности.
Андерсон был явным синофилом, а Бэрроу был синофобом (С. 43).
Еще одну книгу о Китае написал участник путешествия графа Маккартни сэр Джон Бэрроу.
Бэрроу повторил все старые обвинения в адрес Китая и добавил к ним несколько новых (С. 44). Власть в Китае была столь гнетущей, деспотичной, что китайцев следовало видеть как рабов. Этим объясняется отсутствие у них чувства чести, то, что они лгали, обманывали и проявляли трусость без стыда. «Раб фактически не может быть лишен чести (у него ее нет)». В некотором смысле Бэрроу приближался к современной расистской позиции, хотя и без экстрима XX века. Он говорил о тесных физических связях, родстве между китайцами и готтентотами. Он свидетельствовал, побывав в Африке, что эти два народа идентичны, если говорить об их голосах, манере разговаривать и темпераменте (С. 44).
Отношение к рабству, к самому понятию рабства и к такому явлению, как рабство, – вот то, что разделяло американцев, приплывших в Китай из Нового Света в конце XVIII века, и китайцев.
Это было ядро, сердцевина расхождений между американцами и китайцами, как в то время, так и поныне. Американцы именно по той причине, что они приплыли из Америки, где рабство было отвергнуто, ощущали несовместимость представлений и поведения людей, которые не принимают рабства, восстают против рабства, и тех, кто мирится с рабством, со своим положением раба.
Американцы искали истоки рабства в физической природе человека. Хотя ситуация, сложившаяся в Китае, была следствием традиций, навязанного и принятого порядка вещей, образа существования и образа мыслей.
Он (Бэрроу) писал об умерщвлении младенцев. В Пекине ежедневно убивали двадцать четыре новорожденных, а каждый год девять тысяч. Торрен, один из европейцев, посетивших Китай в XVIII веке, утверждал, что брошенных (на произвол судьбы) детей китайцы ели в медицинских целях (С. 45).
Это не простой вопрос. Конечно, с течением времени, особенно сегодня, все такого рода утверждения и рассказы представляются измышлениями. Однако и их необходимо иметь в виду, составляя представление о китайцах и их истории. Современные китайские писатели, например Мо Янь в романе «Страна вина», иной раз упоминают и о такого рода явлениях в Китае.
Бэрроу видел Китай как нацию великих парадоксов. Хотя Китай был первым по размерам (территории) и населению, он находился почти на дне, если говорить о военной силе. Будучи цивилизованным раньше греков, Китай в настоящее время вряд ли вообще является цивилизованным (С. 45).
Предмет гордости Китая – почтительность к родителям со стороны их сыновей и дочерей – оказывается неубедительным в свете такого явления, как брошенные младенцы. В этом настроении он продолжал: «За строгой моралью и церемониальным поведением народа следует перечень самых больших разврата и распущенности; добродетели и философия ученых объясняются их невежеством и их пороками; если на одной странице они говорят о чрезмерном плодородии страны и о поражающем воображение распространении сельского хозяйства, то на следующей странице выставляются напоказ тысячи людей, страдающих от бедности; и в то время как они превозносят с восхищением прогресс у них в области искусств и наук… без помощи иностранцев они не могут ни отлить пушку, ни рассчитать затмение». …Даже национальный характер он описал следующим образом: «странное сочетание гордости и убожества, притворной серьезности и реальной фривольности, рафинированной цивилизованности и громадной неделикатности» (С. 45).