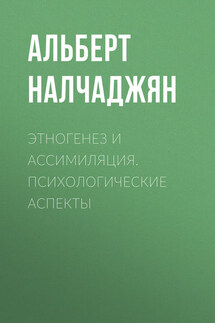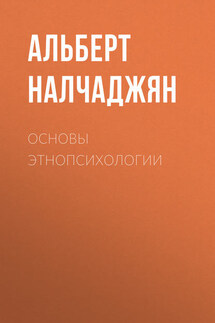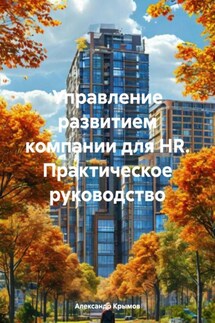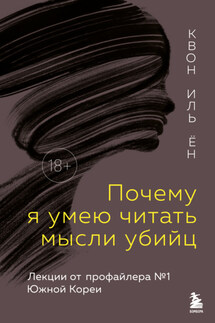Читать онлайн Коллектив авторов - Историческая психология: прошлое, настоящее, будущее
© ФГБУН «Институт психологии РАН», 2020
Предисловие: Традиции и возможности развития исторической психологии как научной отрасли
Е. Н. Холондович
doi: 10.38098/thry.2020.25.72.001
Настоящий сборник является попыткой коллектива психологов и историков осмыслить путь, пройденный исторической психологией за последние несколько десятилетий. Наша задача – выделить и проанализировать актуальные на сегодняшний день проблемы, касающиеся методологических и теоретических аспектов развития данной отрасли, а также представить как можно шире ее основные научные направления и современные исследовательские разработки: изучение российского менталитета и психологических характеристик людей разных исторических эпох, анализ эволюции психики и психобиографические исследования, рассмотрение кросскультурных аспектов исторической психологии, выявление особенностей становления, сохранения и осмысления исторического опыта в индивидуальном и групповом сознании. Структура сборника обусловлена актуальными задачами, стоящими перед психологией в целом и отражающими широкий комплекс проблем современного общества.
Понимание генезиса различных социально-психологических феноменов как никогда актуально. Источники разных форм индивидуальной и общественной жизнедеятельности современного человека сокрыты в историческом прошлом, их выявление и объяснение является важнейшей задачей исторической психологии. Они заключены в менталитете, традициях, стереотипах поведения, исторической памяти и др. Историческая психология помогает понять психологию участников исторических событий, тем самым выделяя психологическую и антропологическую составляющие исторического процесса (подробнее см.: Историческая психология…, 2004; История и психология, 1971; Кольцова, 2011; Королёв и др., 2011; Шкуратов, 1979; и др.).
Б. Г. Ананьев обосновывал необходимость изучать человека как целостное явление, не дробя его на отдельные функции, свойства и состояния (Ананьев, 2001; см. также: Головей и др., 2017; и др.). В этом он видел задачу психологии будущего. Именно историческая психология, имея статус междисциплинарной отрасли научного знания, дает возможность осуществить комплексный подход к исследованию человеческой психологии (Методология комплексного человекознания, 2008; и др.).
В свою очередь историческая психология в полной мере осуществляет и субъектный подход, который разрабатывали С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова и который в настоящее время активно развивается в Институте психологии РАН (см., например: Личность и бытие…, 2008; Субъектный подход…, 2009; и др.). В рамках данного подхода человек рассматривается как активный субъект деятельности, продукты которой, воплощенные в памятниках культуры, выступают важнейшими источниками знания о психологии их создателей.
Предсказательный характер данной дисциплины позволяет объяснить и спрогнозировать те или иные феномены в психологии современного человека, что, по мнению А. Л. Журавлева, является одной из труднейших задач. Он отмечает, что вклад исторической психологии в теорию психологии еще в достаточной мере не оценен, между тем как она «приближает к пониманию, например, культурно-исторической обусловленности психологии человека, закономерностей формирования индивидуального и группового сознания, механизмов порождения индивидуальных, групповых и массовых социальных действий, взаимодействия индивидуального и коллективного сознания и поведения и др.» (Историческая психология…, 2004, с. 11).
Важнейшими функциями исторической психологии являются прогностическая и мировоззренческая. Имея междисциплинарный статус в психологии и гуманитарном знании в целом, эта отрасль выполняет также и методологическую функцию, так как позволяет осуществить плодотворное взаимодействие номотетических и идиографических методов исследования.
Несмотря на то, что историческую психологию принято считать молодой отраслью, история ее становления и развития насчитывает не одно десятилетие. Ее началом можно считать вторую половину XIX в. – время формирования психологии как самостоятельной науки, когда В. Вундт впервые заявил о необходимости выделения в отдельные направления эмпирической психологии и психологии народов. Им был создан десятитомный труд «Психология народов. Исследование законов развития языка, мифов и обычаев» (1900–1920). Автор сформулировал цель: изучение человеческого поведения в истории, т. е. социально-психологических аспектов человеческого развития и существования. По его мнению, психология народов тесно соприкасается с историей, этнологией и социологией, что в свою очередь указывает на междисциплинарный статус зарождающегося научного направления. Исторический материал Вундт рассматривал как результат естественного эксперимента, позволяющего строить гипотезы о том или ином психологическом явлении. Его задача заключалась в расширении опыта понимания психологической составляющей исторического процесса, хотя он осознавал, что ошибки при подобных исследованиях будут неизбежны в связи со сложностью их предмета и объекта (Сметанина, 1999).
В. Дильтей также указывал на необходимость разделять психологию объяснительную (эмпирическую) и психологию описательную, или науку о «духе», предметом которой выступают общество, история и человек (Дильтей, 1996). Задачей последней является изучение психологических закономерностей, составляющих основу культуры, и самих продуктов культуры. Объектами изучения, по мнению Дильтея, должны выступать внутренний опыт человека, феномен его целостной душевной жизни, главным показателем которого выступает переживание. Понимание себя, своего внутреннего мира и мира других людей опосредовано единой духовной субстанцией, на которой строится жизнь народа. Исходя из этого, предметом изучения «наук о духе» должна стать психология народов, которая воплощается в их религии, праве и языке, а также в нормах и правилах, регулирующих поведение. Таким образом, человек выступает как продукт и в то же время активный деятель культурно-исторического процесса, поэтому, изучая культурно-исторический контекст его жизни, исследователь может подойти к пониманию его внутреннего мира.
Французский ученый И. Мейерсон разработал теорию психолого-исторической реконструкции прошлого. На основе исследований материала культуры как продуктов деятельности человека он выделил следующие позиции для тщательного анализа: психические реакции, поступки, социальную иерархию, приемы творения искусства, орудия труда. Ученый предлагал рассматривать их с позиции анализа поведения и «психологических функций», под которыми он понимал ментальную активность человека. При этом он отказывался от общепринятых в психологии эмпирических методов исследования, заменяя их анализом исторического развития языка, науки, искусства, литературы и др. Свою задачу он видел в раскрытии тех духовных усилий, которые были вложены в историю создания той или иной дисциплины. Более конкретного определения «психологических функций» им не было представлено.
Несколько другой ракурс развития психолого-исторические исследования получили в работах этнологов Э. Д. Тейлора, К. Леви-Стросса, Л. Леви-Брюля, которые изучали проблемы сознания и мышления представителей первобытного общества, а также осуществляли сравнение культур, относящихся к различным цивилизациям, имеющим разные уровни развития. В отечественной науке данное направление легло в основу концепции историогенеза психики П. П. Блонского, Л. С. Выготского, Б. Д. Поршнева и способствовало разработке знаковой модели психики А. Р. Лурией, А. Н. Леонтьевым, В. П. Зинченко, А. Г. Асмоловым и др. В культурно-исторической парадигме, в частности, в работах Л. С. Выготского, психика человека включена в контекст культуры: высшие психические функции рассматриваются как результат культурного развития и характеризуются как социальные, культурные, исторические.
Представленная выше ветвь изучения человеческой психологии в условиях исторического процесса касалась группового сознания и поведения, в то время как групповые и индивидуальные особенности психики рассматривались в психоаналитических концепциях З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Эриксона, В. Райха и других исследователей «психоисторического» направления. Изучение жизненного пути исторических личностей проводилось в русле гуманистической психологии А. Маслоу, Г. Олпортом и др. (Более детальный обзор психоисторических исследований представлен в статье Д. С. Самохвалова.)
Нужно сказать, что свой статус научной отрасли историческая психология получила в исследованиях представителей французской школы «Анналов» (Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель, Р. Мандру, Ж. Ле Гофф и др.), изучавших ментальность больших и малых социальных групп. В России эта школа обрела своих последователей в лице А. Я. Гуревича и др. (Гуревич, 1993). Л. Февр и М. Блок, ее основатели, сформулировали задачу изучения «мыслительных структур, присущих всем членам общества» (Гуревич, 1993, с. 48), а также сознания и поведения (ментальности) людей определенной эпохи. Причем ученые указывали на то, что ментальности имеют универсальный характер и, как правило, неосознаваемы. Они воспроизводятся «помимо воли людей», представителей больших и малых социальных групп, а также отдельного индивида. Изучение социально-психологических механизмов их функционирования заставляло исследователей изменять ракурс видения проблемы: от изучения поведения они обращались к анализу области эмоций и коллективных представлений, которые коренятся в учениях и верованиях. По их мнению, необходимо проникнуть «в тайники мыслительной деятельности людей» (там же, с. 49), исследовать их словарь, символы, ритуалы, в которых выражались «существенные аспекты их поведения», вычленить следы человеческой мысли и деятельности.
Российская наука имеет богатый опыт исследования социально-психологических проблем общества в контексте истории. Русские философы, историки, этнографы конца XIX – начала XX в. (К. Д. Кавелин, Н. И. Надеждин, М. П. Погодин, Н. Я. Данилевский, К. С. Аксаков, Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев, Н. И. Костомаров, Н. О. Ключевский, С. М. Соловьев, К. Н. Леонтьев и мн. др.) разрабатывали проблемы национального характера, его структуры, становления, факторов формирования. Они были уверены в том, что «психологический склад» народа должен стать предметом тщательного изучения, так как от верного его понимания зависит дальнейшее развитие общества (Кольцова, Журавлев, 2017, с. 10). Исследования, выполненные российскими учеными в области этнической, юридической и военной психологии во второй половине XIX – начале XX века, также можно рассматривать как эмпирические предпосылки исторической психологии. Они внесли существенный вклад в ее становление. (Историко-психологический анализ развития исторической психологии в русле социально-психологических исследований будет дан в статье В. П. Познякова.)
В Институте психологии РАН исследования психологической составляющей исторического процесса начались в середине 1970-х годов. Это прежде всего работы Е. А. Будиловой об истории становления социальной психологии в России; коллективный сборник научных трудов под редакцией Л. И. Анцыферовой и Б. Ф. Поршнева, представляющий собой объединение усилий историков и психологов по разработке новых подходов к исследованиям в области исторической психологии; исследования менталитета, предпринятые в 1990-е годы К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинским, М. И. Воловиковой и др. (Обзор «советского периода» в развитии исторической психологии будет осуществлен в статье Е. В. Харитоновой.)