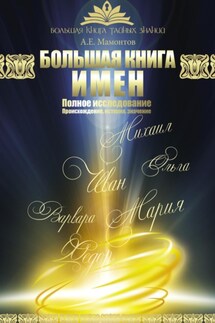Исторические миниатюры. Скрытая реальность - страница 8
В целом же древние иудеи в украшениях видели проявление личности человека, и привязанность владельца или владелицы к своим украшениям образно переосмысливалась как проявление верности народа Богу Израиля (Иер. 2:32), и верности Бога Своему народу (Ис. 61:10).
«Такой угол зрения инициировал постепенный перелом в оценке отношения к драгоценностям: в Пятикнижии истинным украшением молодых людей уже названо умение слушать наставления отцов и заветы матерей; стариков же украшает седина, – считали евреи, – а не ухищрения с целью сокрыть свой возраст».
В учении Христа истинным украшением человеков называлась красота души и жизнь в послушании Богу. Чрезмерное украшательство отвергалось из соображения того, что не должен человек любоваться лишь телом и одеждами своими, отвлекаясь взглядом и мыслью от внутренней сущности. Красивые вещи в прельщении ими оборачивались искусительной силой.
Простые евреи едва ли знали то, что понимали мудрые раввины: выражение A-DA сохранилось в наследии древних шумеров, и в их речи буквально означало – «быть A», «(быть) близким А». Шумерский силлаб «A» нёс в себе сложный и многогранный смысл: «вода», «канал», «семя», «наследник», «отец», «слезы», «потоп». В совокупности граней дифтонг A-DA обретал сакральное значение: «быть всему Началом и Концом», «быть Альфой и Омегой».
Так представлял себя Бог в священных текстах. Но к чему шёл человек?..
Гордыня A-DA и привела людей к печальному итогу – непониманию друг друга, а главное – к неспособности говорить с Богом на прекрасном и дивном красотою языке бессмертной души. О последствиях сего убедительно повествуют рукописи Мёртвого моря: «…Оплакала Иудея гибель царства своего, когда увели ассирийские воины десять колен Израилевых. И служили им мужчины рабами, и женщины служили им, блистая красотою своей и достоинств своих, как драгоценные алмазы блистают в оправе золотой …».
Понимание последствий потребовало реализации предосторожности, и если в текстах Ветхого Завета Ревекка для встречи Исаака оделась в «ризу летнюю», иначе – в праздничную, торжественную одежду; и Фамарь, свергнув ризы вдовства своего, также украсила себя праздничной, щегольской накидкой, то в тексте Нового завета апостол Пётр представил Сару как образ истинной женской красоты и достоинства, состоящих не в плетении волос, не в златых уборах и нарядности её одежд, но «в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».
Так, кропотливо и методично, в умах людских замещалась мораль любования и стяжательства на мораль духовности и совести. В обновлённом смысле хорошая женщина сама подобна драгоценному украшению, и блистает добродетелями в доме своём. И в наши дни в еврейских религиозных семьях перед субботней трапезой отец семейства обычно читает вслух библейскую поэму, выражающую восхищение женой. Поэма называется по своим начальным словам – «Эшет хаиль». В ней сокрыты замечательные слова: «…такая жена дороже жемчуга ценой… Подаёт она бедному, руку она протягивает нищему… Уста свои открывает для мудрости…».
Иносказательно – достоинства души украшают женщину лучше всех драгоценностей мира. Не вместо, а – прежде!..
Такая доктрина неизбежно привела к переосмыслению весьма древнего женского имени Ада, в котором сочеталось извечное стремление женщины нравиться и быть привлекательной, и видение идеала благонравной жены.