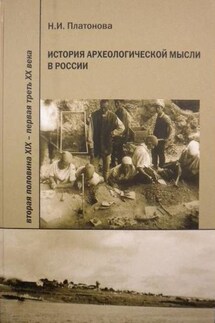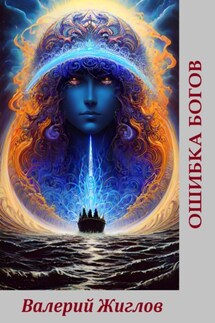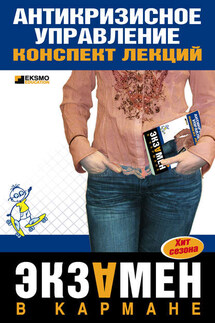История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века - страница 9
Третьим определяющим фактором является наличие формальных и неформальных каналов, по которым осуществляется оперативный научный обмен между представителями школы. Таковыми являются: объединение в исследовательские коллективы, совместная экспедиционная деятельность, взаимодействие в рамках различных проектов и т. п. Четвертым важнейшим, хотя и «вспомогательным», фактором является степень групповой сплоченности, наличие отчетливого противопоставления «мы – они» по отношению к остальной части научного сообщества. Рождению этой сплоченности способствуют такие моменты, как личные качества лидера группы; совместное противостояние ее членов каким-либо «проискам извне»; чувство цеховой солидарности; общность коллективной памяти – научного «фольклора», формирующего образ данной школы, и т. д.
Когда эти факторы так или иначе задействованы, в пределах научного сообщества образуется дополнительная сеть («сгусток») многообразных и многоуровневых связей. В рамках ее происходит постоянное брожение мысли. Там присутствуют разные виды научной преемственности в достаточно сложном переплетении. Общность такого плана я и называю научной школой.
Безусловно, предложенная трактовка не претендует быть единственно возможной, учитывая «крайнюю расплывчатость категории исторической школы вообще» (Ростовцев, 2005: 304). В связи с этим можно констатировать определенную идейную близость ее к разработкам С.И. Михальченко, в которых выход из запутанной ситуации мыслится именно через определение «иерархии критериев» в изучении феномена научной школы. На первое место среди них ставится «педагогическое общение… основателя школы и его учеников» (Михальченко, 1996: 3–16).
В ряду наработок современной социологии науки, использованных в работе, особого упоминания заслуживают идеи крупнейшего французского социолога П. Бурдье (1930–2002) (см.: Ритцер, 2002; Шматко, 2001). Мне кажется плодотворным предложенное им понятие научного символического капитала, состоящего «в признании (или доверии коллег), которое даруется группой коллег-конкурентов внутри научного поля. <…> Этот вид капитала частично базируется на признании компетенции, которое, помимо производимых им эффектов узнавания и частично благодаря им, придает авторитет и участвует в определении, <…> что важно, а что нет в такой-то теме, блестяще это или устарело» (Бурдье, 2001: 56–57; см. также: Бурдье, 2005: 473–517). Другим важнейшим положением П. Бурдье является деление научного капитала на институциональный и «чистый». Первый – это власть, связанная «с занятием важных позиций в научных институтах, руководством лабораториями или факультетами <…> и т. д., а также власть над средствами производства (контракты, кредиты, посты) и воспроизводства (власть назначать на должности и продвигать по службе), которую дают им высокие посты» (Бурдье, 2001: 64). «Чистый» научный капитал, по Бурдье, «приобретается, главным образом, признанным вкладом в прогресс науки, то есть изобретениями или открытиями (наилучшим показателем в данном случае являются публикации, особенно в наиболее селективных и престижных печатных органах)» (Бурдье, 2001: 65).
Идеи П. Бурдье во многом дискуссионны. Но они оказались в русле социокультурных поисков современной историографии и служат ныне теоретической основой целого ряда историко-научных исследований – отечественных и зарубежных (Дмитриев, Левченко, 2001; Рингер, 2002). Весьма интересными выглядят, в частности, представления Бурдье о внутренней иерархии научного сообщества и его трактовка конфликтов в науке как борьбы за символический капитал (Бурдье, 2001: 49–95).