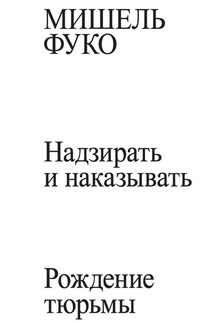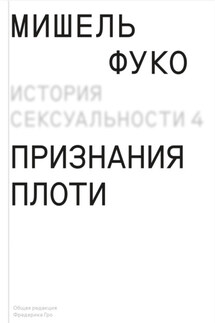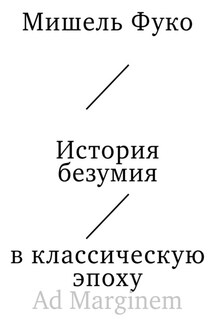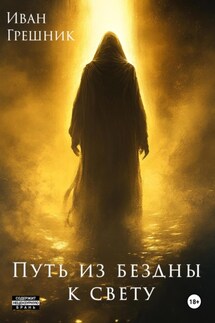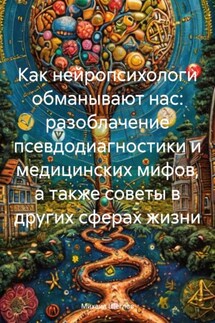История безумия в классическую эпоху - страница 29
И вот это-то изменяет всю проблематику безумия – монтеневскую проблематику; изменяет, конечно, почти неприметно для взора, но коренным образом. Отныне место безумия – в сфере исключенности, и лишь «Феноменология духа» отчасти выпустит его на свободу. Для XVI века Не-разум был некоей прямо грозящей опасностью, которая всегда могла – по крайней мере, в принципе – нарушить связь субъективного восприятия и истины. Ход сомневающейся мысли у Декарта ясно показывает, что опасность уже преодолена и безумие располагается вне той неотъемлемо принадлежащей субъекту сферы, где он сохраняет все права на истину, – то есть вне той сферы, какой является для классической мысли самый разум. Отныне безумие отправляется в ссылку. Если отдельный человек всегда может оказаться безумным, то мысль как деятельность полновластного субъекта, ставящего своей целью разыскание истины, – мысль безумной быть не может. Между Монтенем и Декартом пролегла граница, которая вскоре окончательно закроет доступ к столь привычному для Возрождения опыту неразумного Разума и разумного Неразумия. Произошло нечто значительное – нечто, связанное с пришествием рацио. Но история рацио как история западноевропейского мира далеко не исчерпывается прогрессом «рационализма»; не меньшее, хоть и не столь очевидное, место в ней занимает тот процесс, в результате которого Неразумие было перенесено на нашу почву, исчезло в ней – но и пустило в ней корни.
Именно эту, скрытую сторону переворота, происшедшего в классическую эпоху, нам и предстоит прояснить.
Из ряда признаков, свидетельствующих об этом перевороте, ни один не относится к области философского опыта или научного знания. Признак, о котором мы будем вести речь, захватывает весьма обширную поверхность культуры. Появление его обозначено с большой точностью: через целую серию дат и совокупность социальных институтов.
Всем известно, что в XVII веке были созданы большие дома-изоляторы для умалишенных; но мало кто знает, что в их стенах провел по нескольку месяцев каждый сотый житель города Парижа, если не больше. Всем известно, что в эпоху абсолютизма существовали тайные королевские указы об аресте и незаконные меры задержания; но мало кто знает, какой тип юридического сознания лежал в основе подобных действий власти. Со времен Пинеля, Тьюка, Вагница нам открылось, что безумные на протяжении полутора веков подвергались подобной изоляции и что в один прекрасный день они окажутся и в палатах Общего госпиталя, и в темницах исправительных домов; они смешаются с толпой обитателей Workhouses и Zuchthäusern[144]. Но еще никто и никогда не задавался целью точно определить их статус и уяснить смысл подобного соседства под одной крышей бедняков, безработных, преступников и умалишенных. Пинель и психиатрия XIX века найдут безумных в стенах подобных изоляторов – и там же, не будем этого забывать, их и оставят, скромно вменяя себе в заслугу их «освобождение». С середины XVII века земля изоляции стала родной для безумия: некий указующий перст направлял его к этому замкнутому пространству как к естественной среде обитания.
Обратимся к самому простому изложению фактов – ведь изоляция сумасшедших является наиболее наглядной структурой в классическом опыте безумия, и именно изоляция навлечет на себя всеобщее возмущение, когда этот опыт станет исчезать из европейской культуры. «Они предстали предо мной нагими, оборванными, не имеющими ничего, кроме соломенной подстилки, чтобы защититься от холода и сырости каменного пола, на котором они простерты. Их кормят грубой пищей, они лишены воздуха, чтобы дышать, воды, чтобы утолить жажду, и самых необходимых для жизни вещей. Они отданы во власть настоящих тюремщиков и не находят спасения от их свирепого надзора. Они предстали предо мной, теснясь в узких, грязных, пропитанных заразой каморках, душных и темных; их запирают в пещерах, куда не решились бы посадить диких зверей, каковых по прихоти роскошествующих властителей с большими издержками содержат в столицах»