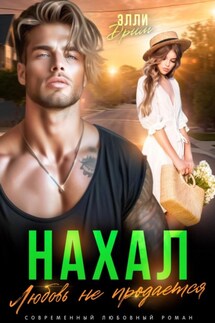Читать онлайн Александр Нежный - История Далиса и другие повести
© Нежный А.И., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
С Богом
Приступая к повествованию о жизни и удивительных поступках нашего героя, Александра Алексеевича Артемьева, сообщим, что лет ему исполнилось не так уже много, но и совсем не мало, а именно – тридцать семь, из коих девять он состоял в законном браке с прелестной внешним своим видом Галей Юшковой, которой он был старше на семь лет, и с которой родил сына, Димочку, чудесного мальчика с глубокими темными глазами.
Познал ли он счастье в семейная жизни? О, да. Был он счастлив почти два года после шумной свадьбы в ресторане «Ариэль», где ломились от пития и брашна составленные буквой «п» столы и оглушительно играл оркестр. Чем усердней дорогие гости пили, тем чаще они орали «горько». Жених – вернее, после посещения ЗАГСа уже не жених, а муж, – он поднимался из-за стола, вместе с ним поднималась его очаровательная, сияющая молодостью и счастьем теперь уже жена, в белом платье, так шедшем к ее смугловатому лицу и темно-карим, почти черным глазам с синеватыми белками, и он приникал к ее губам, хранящим сладкий вкус только что выпитого вина. Нестройным хором гости считали: один… два… три… «Мало! Еще! – орали они. – Всё равно горько!» Все смеялись. Только его мама сидела, опустив голову, с лицом, выражающим такую печаль, словно она была не на свадьбе, а на поминках. Он мельком взглядывал на нее и поспешно отводил глаза. Всю жизнь с тех пор, уже и после ее смерти, он вспоминал, какой отрешенной была она среди полупьяных, пьющих, жующих, веселящихся гостей, и щемящее чувство своей перед ней неизбывной вины падало ему на сердце.
«Боже, – произнес он, – милостив буди мне, грешному». Он брился, с отвращением глядя на свое отражение в зеркале, – лысеющий, склонный к полноте мужик с мешками под глазами. Господи, помилуй, во что он превратился! Курить надо бросить. В зал ходить. В молодости был строен, ни грамма лишнего веса, пролетал стометровку за одиннадцать секунд с малюсеньким хвостиком в одну десятую, что принесло ему первый разряд. Как он был счастлив. Рука дернулась, и на левой щеке, возле подбородка, проступила кровь. «Ничего не можешь, – со злостью высказал он себе прямо в лицо. – Побриться, не порезавшись…» В дверь постучали. «Папа! – позвал Димочка. – Я уже встал». «Сейчас, Дима! – откликнулся он. – Еще секунда. Учебники, тетрадки – все собрал?» «Еще вчера». «Умник, – похвалил он сына. – Поставь чайник. А мама?» «Мама спит». «И пусть, – сказал Артемьев, подумав, что случись иначе, пришлось бы ставить свечку Петру и Февронии за их, правда, изрядно запоздавшее вмешательство. – Иду!»
Но скажите на милость, как получилось, что он взял в жены девушку, не присмотревшись к ее родителям? Да, он их видел, сто раз видел, – ее мать, Тамару Владимировну, маленькую женщину с кукольным лицом, выщипанными бровями и ртом куриной жопкой, из которого, как пули из автомата Калашникова, с неправдоподобной скоростью вылетали слова, и ее отца, Роберта Муртазовича, малорослого жилистого грузчика с двумя ходками на зону – первая за нанесение телесных повреждений средней тяжести, и вторая, уже за тяжкие телесные, проще же говоря – за удар ножом в спину случайного собутыльника. Но что в том толку, что он их видел? В тумане влюблённости ему напрочь отказала способность угадывать в облике человека свойства его натуры. Иногда он промахивался; но тут ошибся бы только слепой. Однако разве способен он был тогда подумать, что у женщины с лицом Тамары Владимировны могут быть только мелкие, завистливые, злобные мысли? И что душа ее мужа подобна темному подвалу с обитающими в нем двумя – тремя простейшими инстинктами в виде прожорливых грызунов? Когда он был трезв, то при встречах больше молчал, пьяный же страшно скрипел зубами и хрипел, обращаясь к Тамаре: «Я хочу свежее кушать!», а Артемьеву объявлял, глядя на него глазами цепного пса: «Все, что ты знаешь, я давно забыл». При других обстоятельствах это ошеломляющее признание наверняка заставило бы Артемьева задуматься – но увы, он и его пропустил мимо ушей. Спрашивается: кого могли они произвести на свет? Кого, скрипнув зубами, выплеснул из темных своих недр Роберт, и кого, приняв его семя, зачала своим маленьким телом Тамара? Какими свойствами могли они наделить свою дочь? «Все это ерунда – отмахивался Артемьев, когда его лучший, еще со времен школы друг Толя Антипов пытался ему внушить, что позолота сотрется, а свиная кожа останется. – Папа грузчик, мама продавщица. Не белая кость, не голубая кровь. И мы не из дворян. Ну, тарахтит она. Ну, пьет этот Роберт. И что? Кто сейчас не пьет». Были еще родственники: мать Тамары, восьмидесятилетняя старуха с трясущимися руками и виноватой улыбкой, какие-то сестры и братья, кажется, ее двоюродные, все ей под стать, продавцы и продавщицы, и только один трудился мясником на Центральном рынке. Их было чересчур много на занятую совсем другим голову Артемьева, и он их путал, называя Людой – Клаву, а Николая – Сергеем, и Тамара, поправляя его, поджимала губы, отчего ее рот становился еще меньше. «Ни-че-во», – басом говорила старуха и улыбалась доброй, виноватой улыбкой.
Он был глуп и влюблен, что, собственно, одно и то же. И не хотел признать, что рано или поздно она заговорит голосом своей матери и обнаружит глубинное сходство со своим отцом. Не пришлось долго ждать. На исходе второго года их брака светлым утром позднего лета она проснулась в дурном настроении. Она была беременна, и ее мучили страхи никогда не рожавшей женщины. А что, если я умру? – спрашивала она и смотрела на Артемьева таким умоляющим, таким жалобным взором, что он брал ее голову в ладони и бормотал, перемежая слова поцелуями. Галочка, говорил он, страдая ее страхами, ну, что ты, сокровище мое. Я тебя уверяю, ты даже не заметишь, как родишь. Мама моя вспоминает, я выскочил из нее, как пробка из бутылки шампанского. Тень легла на ее лицо. Она помрачнела. Вечно ты свою мамочку везде суешь. Он опешил. Галя! Почему вечно? И почему – суешь? Мы на таком языке не разговариваем. Ну, да, молвила она, смотря на него злыми глазами. Ты что хочешь сказать? Что у меня отец татарин? И грузчик? А мама продавщица? А твоя мать, она кто, академик? Галя, взмолился он, перестань. Что за вздор ты говоришь. Тебе вредно волноваться. Вредно?! Она встала с кровати и пока среди брошенных как попало вещей искала халат, он увидел ее выросший за последние дни живот и худые ноги с едва заметными волосами на голенях и обозначившимися венами. Да мне вредно, вреднее быть не может. Она набросила на плечи халат и заговорила с ошеломляющей скоростью, отчетливо выговаривая каждое слово. Я терпела, сколько могла, а теперь скажу. Не надо было тебе жениться, вот что! Ты все к ней бегаешь. Ночуешь у нее. И деньги ей даешь, как будто у нас их куры не клюют, и продукты, и звонишь по десять раз в день. Мамочка, передразнила она, как ты себя чувствуешь? А как я себя чувствую, тебе и дела нет. Неправда! – воскликнул он, пораженный легкостью, с какой она солгала ему в лицо. Мы с тобой только позавчера были у профессора.
Сколько врачей обошли, я со счета сбился. А у мамы была тяжелая операция, ты знаешь. Кому еще о ней заботиться. Она усмехнулась. У нее характер такой, вот почему она одна, мстительно проговорила Галя. Твой папа не выдержал и ушел.
Артемьев вдруг испытал отвращение к ней – к ее волосам с покрашенной в соломенный цвет прядью, к глазам, которые в медовую пору их отношений он называл «темными звездами», а сейчас в них было столько злобы, что хватило бы на пару доберманов, к ее рту, словно у механической куклы открывающемуся и закрывающемуся с умопомрачительной быстротой, к ее худым ногам, а в особенности – к ее желтому с красными пятнами халату, который казался ему теперь олицетворением всего дурного, что она принесла в его жизнь. И если раньше он позволял себе занестись мыслями в некое безоблачное будущее, где он был любящим мужем и счастливым отцом уже подросших детей, мальчика и двух девочек, то теперь он в первый раз подумал, что рождение сына свяжет его по рукам и ногам. Одно дело – расстаться с ней, и совсем другое – отдать сына ей и ее матери, чтобы они вырастили его по своему образу и подобию.
Закрыв лицо руками, она сидела в кресле. Плечи вздрагивали. Ему стало жаль ее. Мучает себя, подумал он и повторил вслух, ты мучаешь себя и совершенно напрасно. Я здесь, я с тобой, я тебя люблю (но с усилием выговорилось у него это слово), и жду нашего мальчика. Она ответила: жди.
Нет худа без добра. Богоданная супруга вставала к плите все реже, и он научился готовить. Он варил суп – и скоромный, и постный, всякий; удавался и борщ; жарил картошку, запекал курицу; о разнообразных салатах, спагетти с натертым сыром, омлетах и глазуньях нечего и говорить – точно так же, как об овсяной каше, тарелку которой он поставил перед сыном. Ешь. Овсянка прибавляет ума. Ну да, сказал Димочка, улыбаясь своей прелестной, застенчивой и лукавой улыбкой. Овсянку лошади любят. Не овсянку, а овес, поправил Артемьев. А тебе еще и чай полагается. С гренками и джемом. «А тебе что полагается?» – спросил Дима. Кофе. Давай, мой друг. Вперед и с песнями. Дима дважды опустил ложку в тарелку, дважды, скосив глаза, отправил ее в рот, на третий же раз остановился на полпути и спросил, известно ли папе, что Россия самая лучшая, самая православная страна на всем свете, а русский народ… Он задумался. Слово забыл. Священник, отец Андрей, раза три сказал. Русский народ… Забыл. Не мучайся, сказал Артемьев. Ешь быстрее. У нас, он взглянул на часы, двадцать минут. Русской народ – богоносец. Дима кивнул, одну за другой съел три ложки каши, передохнув, съел четвертую и отодвинул тарелку. Бог русский народ выбрал. Он стал богоносцем. И за это другие народы его ненавидят. Пап, я больше не хочу. Эх, огорчился Артемьев, совсем немного осталось. Две ложки. Доешь. Дима покачал головой. Не лезет. Тогда чай, и по коням. Дима налил себе чая, взял любимую свою гренку из «бородинского» хлеба, намазал сверху клубничным джемом, придирчиво осмотрел, промолвил: «Восхитительно» и с хрустом откусил. У Артемьева между тем в груди закипало. Он спросил. А этот… отец Андрей, давно у вас? В первый раз. Теперь будет приходить по пятницам. Шестой урок. Он, папа, такой… Дима положил гренку в блюдце и развел руки. В два обхвата. И крест золотой. Петька Круглов сказал, из чистого золота. Ага, заскрипевшим от нехорошего чувства голосом произнес Артемьев. Держи карман. А что, папа, внимательно посмотрев на Артемьева, спросил Дима, этот отец Андрей, он тебе не нравится? Дверь в кухню отворилась. Заглянула Галя в розовой ночной рубашке до пят, с черными потеками под глазами от несмытой на ночь туши. Вы еще здесь, промолвила она, зевая. Опоздаете. Доброе утро, мама, улыбнулся Дима. Доброе, Димочка. Я еще посплю. Вчера после премьеры столы накрыли. Я вернулась часа в три. Едва живая. Вернулась, ровным голосом сказал Артемьев, и слава Богу. Я рада, что ты рад, холодно промолвила она и закрыла дверь. Тяжелый случай, пробормотал Артемьев. Дима услышал и спросил, а с кем тяжелый случай, с мамой? Она устала? Со мной, ответил Артемьев, и скомандовал: вперед!