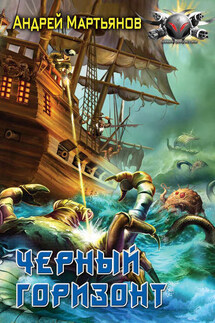История географо-геологического освоения Сибири и Севера России - страница 7
Что касается региона Урала, напомним хотя бы об известном Горбуновском торфянике— раскопках близ Нижнего Тагила, где были обнаружены стоянки эпохи неолита и бронзы III–II тыс. до н. э. Опознано множество изделий из дерева: весла, жом для отжима растительного масла, полозья саней и пр.
Таким образом, двигаясь в своей истории на Север и Восток, россияне проникали, в сущности, на давно заселявшиеся территории.
Перейдем, однако, к временам, известным нам по первым дошедшим до нас летописям.
Согласно Н. М. Карамзину, по сказанию Геродота, писавшего за 445 лет до Рождества Христова, на Северо-Восток от Дона, Днепра и степей Астраханских, заселенными скифами, сарматами и другими племенами, за густыми лесами начинались каменистые горы (Уральские) и страна людей, которые, по описанию Геродота, названы Карамзиным калмыками.
Другие описания Геродотом северных территорий отрывочны и малоинформативны. Кроме того, по-видимому, его сведения не касались высоких северных широт, поскольку сам падающий снег и лед на земле или воде он описывает как нечто дивное.
Поэтому перейдем сразу к летописям Нестора (в пересказе и комментариях Н. М. Карамзина), и также только в той части, где речь заводится о неславянских народах, издавна проживавших на территории нынешней России, и о взаимоотношениях славян, русских с этими народами.
Появление первых древних городов славянских (Новгорода, Киева и др.), согласно этим летописям, относится к первым векам н. э. Другие древние славянские города (Изборск, Полоцк, Смоленск, Любеч, Чернигов) летописцем объявляются построенными не позднее IX–X в.
«Кроме народов Славянских, – читаем у Карамзина – Нестора, – жили тогда в России и многие иноплеменные: Меря вокруг Ростова и на озере Клещине, или Переяславском; Мурома на Оке, на юго-восток от Мери; Ливь в Ливонии, Чудь в Эстонии и на восток к Ладожскому озеру; Нароеа там, где Нарва; Ямь или Емь, в Финляндии; Весь на Белеозере; Пермь в губернии сего имени; Югра, или нынешние Березовские Остяки, на Оби и Сосьве; Печора на реке Печоре».
Карамзин говорит, что, хотя многие из этих народов в последующем смешались с россиянами и исчезли, но другие сохранились и поныне, и языки их настолько сходны между собой, что позволяет их объединять в группу Финских (а ныне мы говорим финно-угорских) народов. К ним он относит «…ныне здравствующих Лапландцев (или саамов, лопарей, живущих в Мурманской области), Зырян (Коми), Остяков Обских (Хантов), Чувашей, Вотяков (Удмуртов)…» Ссылаясь также на Тацита, летописующего еще в первом столетии и. э., а также на позднейших шведских историков и Гроция, Карамзин говорит, что даже Норвегия, Швеция и Дания когда-то ранее были населены этими народами, на Восток их расселение простиралось до Урала, Волги и Сибири, на Север – до Ледовитого Океана.
«Не знаем, когда они в России поселились, но не знаем также и никого старобытнее (исключая, таким образом, и славян) в северных и восточных ее климатах». Нестор упоминает, что древняя история скандинавов говорит о двух особенных, вольных и независимых (то есть не платящих никому дани) странах этих народов: Кириаландии и Биармии.
Первая из них простиралась от Финского залива до Белого моря.
Вторая, Биармия, гранича на западе с первой, занимала обширное пространство от р. Шексна, Онежского озера и Белого моря на западе до меридиана р. Печора в ее верхнем течении, а в пространстве между 55-й и б 1-й параллелями смыкалась восточной границей с цепью Уральских гор, с юга граничила со странами волжских болгар, черемисов (мари) примерно по 57-й параллели, а затем с муромой и мерью с границей по р. Волга в ее верхнем широтном течении. На север пространство Биармии простиралось до берегов Баренцева моря.