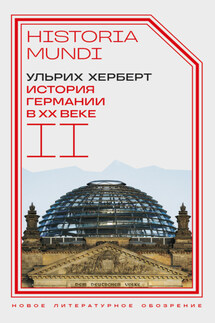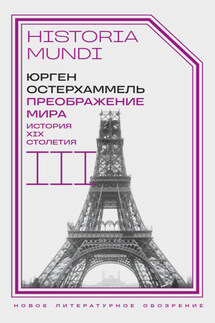История Германии в ХХ веке. Том I - страница 13
Помимо этого, понятие «урбанизация» описывает также процесс утверждения нового городского образа жизни, который радикально отличался от традиционной жизни в небольших городах и деревнях. Большой город стал знамением эпохи. Новый социальный облик немецкого общества формировался в крупных городах. Теперь не группы, легитимированные сословной традицией, такие как дворянство, духовенство, «буржуазия», определяли облик городского общества, а классы, определяемые их положением в капиталистическом рыночном обществе. Они также во многом определяли социальную иерархию, сложившуюся в городах на рубеже веков.
На вершине находилась небольшая группа богатой крупной буржуазии, к которой принадлежало не более одной-двух сотен тысяч человек. Ниже этой узкой вершины располагалась собственно экономическая буржуазия, состоящая из предпринимателей в промышленности, торговле и ремесле, которые составляли около трех-четырех процентов населения. Ниже этого слоя находилась буржуазия образования, к которой на рубеже веков принадлежало лишь около одного процента населения. Она росла в основном за счет расширения академических профессий на государственной службе: в бюрократии, в юридической и медицинской службах, в образовательных учреждениях. Однако в то же время в промышленном секторе резко возросло число работников с академическим образованием, например инженеров, химиков, архитекторов. Средний класс, так называемая «мелкая буржуазия», был гораздо более гетерогенным: сюда входил не только «старый» средний класс – мелкие торговцы, ремесленники, чиновники и офицеры среднего звена, – но и быстро растущая армия работников промышленности и сферы услуг, «новый» средний класс. Вместе эти группы, понимаемые как «буржуазия», составляли около 8–10 процентов населения – чуть менее пяти миллионов человек.
Однако социальные различия и символическая дистанция между этими разными группами буржуазии были огромны. Между одним из новых сверхбогатых крупных бизнесменов, таких как Крупп, Тиссен или фон Штумм-Гальберг, и мастером-ремесленником, заведующим департаментом в муниципальном органе власти или профессором в гимназии существовала пропасть – она была видна во всем, включая нормы поведения, начиная от выбора брачных партнеров до общения в клубах по интересам. И все же между ними было и нечто общее – ориентация на буржуазную культуру, глубокое уважение к тому образованию, которое давала классическая гимназия, и к нормам буржуазной морали. То, что все эти группы объединяло, и позволяет нам говорить о них вместе взятых как о «буржуазии»14.
Второй класс, определяющийся через свое место в рыночной экономике, – рабочий класс – также был крайне неоднородной группой. Если взять более узкую группу работников, занятых в торговле, коммерции и на транспорте, то получится 24 процента населения в 1882 году и около 33 процентов в 1907 году. Если также включить сельскохозяйственных рабочих, домашних работников, слуг, то есть доиндустриальные низшие классы, то получится около 50 процентов в 1907 году. Если, с другой стороны, взять из прусской статистики доходов тех, кто находился за чертой бедности в 900 марок годового дохода, то получится почти две трети общества. С этим порядком величин можно столкнуться и при измерении доли наемных работников в общем числе занятых, которая выросла с 56 процентов в 1875 году до 76 процентов в 1907 году.