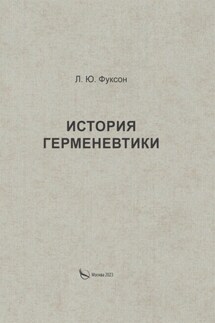История герменевтики - страница 2
Встаёт закономерный вопрос: зачем вся эта преамбула?
То, что такое герменевтика, конечно, складывается исторически. Однако мы прослеживаем её историю, уже находясь в XXI веке и являясь не просто потомками и толкователями, но и наследниками этого формирующегося понятия, которое не только находится «вне» нас – в качестве предмета изучения, но и «внутри» нас – в виде каких-то «анонимных» расхожих представлений. Поэтому предварительное рефлексивное очерчивание само́й предметной плоскости видения, в том числе и этимологическое, есть нечто неизбежно предшествующее любому историческому экскурсу.
Итак, задача понимания как герменевтическая проблема рождена феноменом чужого: жизненной ситуации, человека, его поступка или слова. Проблема заключается в самой встрече с чужим, в необходимости соотнесения Себя с Другим. Что такое обнаружение чужого? Это единство понятного и непонятного, откровение сокровенности. Само такое определение можно «свернуть» в вопросительный знак и снова развернуть в тезис Сократа: я знаю то, что ничего не знаю (см.: Платон. Сочинения. Т. 1. М., 1968. С. 88). Немецкий философ Бернхардт Вальденфельс говорил в 1997 году о парадоксальности феномена чужого, которое «демонстрирует себя только тогда, когда уклоняется от схватывания» (Б. Вальденфельс. Мотив чужого. Минск, 1999. С. 127).
Кроме того, важно, наверное, осознать встречу с чужим как особое переживание: неуверенности, тревожности, доходящей до страха, неуютности, но вместе с тем и любопытства. Это исходно бытийная, жизненная, а не специально познавательная ситуация.
В размышлении над проблемой понимания неизбежно всплывает феномен языка как универсального посредника, моста между людьми и эпохами. При этом нужно помнить, что язык не только соединяет, но и разделяет – тогда, когда мы в рамках одного языка при этом говорим «на разных языках»:
(Ф. Тютчев)
Налицо известная нам благодаря Фердинанду де Соссюру и апеллирующей к нему семиотике коллизия между общим языком и индивидуальной речью, кодом и сообщением, то есть, иными словами, между готовым потенциальным форматом и актуальной информацией. Кроме того, ведь мы имеем дело не с одним языком, а со множеством языков, которые разделяют целые народы. В библейском мифе о вавилонском столпотворении описывается ситуация непонимания в рамках одного языка, когда Господь смешивает язык строителей так, «чтобы один не понимал речи другого» (Бытие 11, 7). «Смешанная» речь теряет свою членораздельность. Но в этом же мифе непонимание возникает и как следствие рассеяния людей «по всей земле» (11, 8), то есть превращения одного народа во множество народов, а единого языка – во множество разрозненных языков.
Сама встреча с чем-то чужим, странным, непонятным требует посредничества. Обратимся к примерам. Прежде всего это уже упоминавшийся Гермес, посредник между небом и землёй, между бессмертными богами и смертными людьми. Далее, культ священной тайны, сокровенности сущего ставит в положение посредников жрецов. Прорицатели – тоже посредники между сакральным (тайным, скрытым) и профанным (явным, открытым) измерениями жизни, о чём мы ещё будем говорить в связи с фигурой оракула.
Вспомним стихотворение Пушкина «Пророк». Здесь тоже, как и в приведённых стихах Тютчева, во-первых, возникает тема косноязычия, то есть непригодности языка для выражения истины: «грех» языка заключается в том, что он «и празднословный, и лукавый…», то есть пустой и лживый. Во-вторых, пророк есть не кто иной, как посредник между Богом и людьми: «Исполнись волею моей», – взывает «бога глас». Конечно, не только поэт оказывается в зоне встречи личного и сверхличного начал, но и любой человек находится на границе между косноязычием твари и творческим словом: «… Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным, / Жизнь для волненья дана», – говорит лирический герой стихотворения Баратынского «Мудрецу».