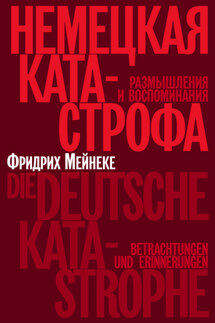История Израиля. От истоков сионистского движения до интифады начала XXI века - страница 9
Но между этим стремлением и сионизмом была существенная разница. На протяжении веков евреи были сосредоточены на чудесном спасении, которое должно было произойти как часть апокалиптических событий, изменивших нынешний мировой порядок. До этого времени, окутанного туманом будущего, они должны были жить своей жизнью в диаспоре, а не форсировать события. Идеи, которые начали распространяться как среди светских, так и среди религиозных евреев в XIX веке, были диаметрально противоположны. Вместо того чтобы пассивно ожидать пришествия Мессии, еврейский народ должен был взять судьбу в свои руки и изменить ситуацию своими силами. Эта концепция встретила резкое сопротивление со стороны консервативных религиозных кругов, которые считали ее противодействием божественной воле. Левые же возражали, что просвещенные евреи должны отказаться от этой концепции, основанной на религии.
Группы Hovevei Zion («Любящие Сион»[28]), появившиеся в Российской империи после Суффот ба-Негев и потери веры в то, что прогресс спасет евреев, были небольшими по размеру, неопытными как в организационном плане, так и в создании поселений, но они внесли существенное нововведение: перестали говорить о Земле Израиля как о мифической земле и стали называть ее реальной страной, в которую можно переселиться. 15 лет спустя Герцль добавил политическую составляющую к движению, начавшемуся до него. Это стремление добиться существенного изменения мировосприятия евреев, а также отношения к ним всего мира – вот что оставило революционный след в сионистском движении. Это было революционным шагом – призывать евреев к реальным, активным действиям в настоящем – то, что Гершом Шолем назвал возвращением евреев в историю. И так же, как и другие национальные движения, это новое движение использовало древние мифы и символы, большей частью заимствованные из традиций и религии.
Герцль и зарождение сионизма
В еврейской истории особое место отведено Теодору Герцлю, отцу сионистского движения. Как бы ни пытались объяснить определенные исторические явления, в них все же сохраняется необъяснимый, таинственный, мистический элемент. Появление Герцля в еврейском мире и его активная деятельность менее чем за десять лет составили одно из таких явлений: мимолетная вспышка молнии, осветившая реальность и встряхнувшая ее, заложившая основу для будущих изменений. Герцль был венгерским евреем из эмансипированной и приобщенной к немецкой культуре семьи; его познания в иудаизме были скудными, а в отношении еврейского народа – поверхностными. Журналист, специализирующийся на жанре легкого фельетона, который ценили в основном евреи, искушенные и ироничные читатели уважаемой венской газеты Neue Freie Presse на рубеже веков, Герцль также пробовал свои силы в драматургии, но с небольшим успехом. Ничто в его личной истории не намекало на душевную стойкость, безграничную энергию, политическую проницательность и бесконечную самоотдачу, которые он проявил в последнее поразительное десятилетие своей жизни. Почти в мгновение ока этот посредственный буржуазный интеллигент превратился в человека, движимого призванием.
Краткая брошюра Der Judenstaat («Еврейское государство»), которую Герцль опубликовал в 1896 году, стоит в одном ряду с трактатом аббата Сийеса What Is the Third Estate? («Что такое третье сословие?»), спровоцировавшим Французскую революцию, и с Common Sense («Здравым смыслом») Томаса Пейна, создавшим подспорье для американской революции. Auto-Emancipation («Автоэмансипация») Иегуды Лейба Пинскера 1882 года предшествовала брошюре Герцля, и хотя анализ антисемитизма Пинскером был определенно более глубоким, величие Герцля заключалось в том, что он показал это явление в его современном контексте и извлек из него конкретные выводы. Герцль понимал многогранный характер современного антисемитизма, соединявшего в себе противоположные элементы. Евреев ненавидели как капиталистов и как революционеров, как богатых и как бедных; как образованных и как невежественных; как людей, унаследовавших местную культуру, но все же остававшихся самобытными.