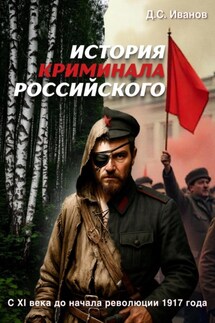История Криминала Российского - страница 6
Пан усмехнулся: «Спасения Я уж не чаю давно, В мире я чту только женщину, Золото, честь и вино. Жить надо, старче, по-моему: Сколько холопов гублю, Мучу, пытаю и вешаю, А поглядел бы, как сплю!»
Не выдержал Кудеяр, гнев закипел в его сердце черной смолой. Ринулся он с ножом на пана, и сталь вонзилась в плоть, обагрив землю кровью. В тот же миг с грохотом рухнул вековой дуб, словно небеса разверзлись, и душа атамана обрела долгожданное спасение.
Подобная история о раскаявшемся душегубе, искупающем грехи, часто встречается в легендах о разбойниках. Возможно, корни этой темы уходят к библейскому сказанию о злодее, первым вошедшем в рай. Отношение к разбойникам всегда было двойственным: грабители и убийцы, они порой делились добычей с неимущими, словно благородные Робин Гуды из народных преданий. Не обошла эта противоречивая слава и русских лихих людей, открывая простор для множества толкований.
Народная память хранит предания о разбойничьих шайках, державших в страхе реки и сухопутные дороги. Эти сообщества, возглавляемые атаманами, являли собой четко организованную структуру с "разделением труда": разведчики, наблюдатели, грабители. Но награбленное добро само по себе не имеет ценности, его необходимо сбыть. И раз грабежи совершаются регулярно, значит, существовали налаженные каналы сбыта.
Стоит обратить внимание и на отношение разбойников к местным жителям. Скорее всего, лихие люди не трогали крестьян, живших по соседству. Разбойникам нужны еда и питье, а значит, местное население служило связующим звеном, обменивая награбленное на провизию, тем самым, участвуя в процессе сбыта. Возможно, именно отсюда и берет начало положительное отношение к разбойникам среди крестьян. Русь издавна жила в бедности, а тут появлялись "свои" люди, грабившие ненавистных богачей и дававшие возможность заработать на сбыте награбленного. Полный консенсус и единение.
XV – XVII века
Формирование государственной системы борьбы с преступностью.
В XV веке ушла в прошлое эпоха раздробленности, уступая место рассвету единого централизованного государства. Древнерусские княжества одно за другим вливались под власть Московских князей. Для укрепления единства и порядка был создан новый свод законов – Судебник 1497 года, однако в контексте нашего повествования он не привносит принципиальных новшеств, изменились только наказания. Если вор попадался впервые, его ждали кнут и штраф, а при отсутствии средств – продажа в рабство. Второе прегрешение каралось смертью, и виновный расплачивался своим имуществом. Но это касалось лишь простого воровства. Если же кража сопровождалась убийством или святотатством, то, как гласит закон, «казнить его смертною казнью, а сумму иска заплатить из его имущества, а остаток его имущества (отдать) судье».
С восшествием на престол Ивана Грозного начинается эпоха преобразований и реформирований. Царю приходилось бороться с местничеством – укоренившейся системой назначения на должности по знатности рода – и с вольнодумством бояр, словно якоря, тормозящих движение государства вперед. Стремясь укрепить державу и свою власть, он начал масштабные реформы, среди которых особое место занимает губная реформа. Проведенная в 30-50-х годах XVI века, она привела к созданию новых органов следствия и суда – губных учреждений. Дворяне и дети боярские в каждом уезде, где вводилось губное управление, избирали из своей среды губных старост. Именно этим ответственным лицам вверялась борьба с преступностью. В помощники им назначались “целовальники” из других сословий – также избранные и приносившие клятву на кресте (целовавшие крест, отсюда и название должности) честно исполнять свои полицейские и судебные функции. Их основной задачей было выявление под присягой среди местного населения "ведомых" разбойников и татей, причем "ведомый" означало не только известных преступников, но и профессионалов своего дела. Они же проводили над ними, их соучастниками и сообщниками, включая укрывателей (т.н. становщиков) суд, а также осуществляли казни.