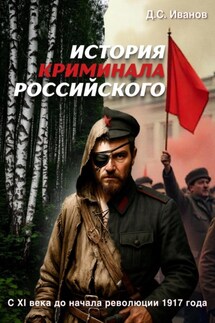История Криминала Российского - страница 7
В обязанности губных учреждений входило и преследование злодеев, не только в своих пределах, но и в соседних землях, где для поимки лихих людей объединялись усилия с другими должностными лицами. Вводился контроль за всеми, кто прибывал в уезд, дабы выявить ведомых разбойников и татей.
Ущерб, причиненный пострадавшим, возмещался из имущества казненных и осужденных. Если же что-то оставалось, то шло в казну государеву. Во второй половине 40-х – середине 50-х годов губные учреждения распространились по всей Руси, за исключением лишь вновь приобретенных земель Казанского ханства, то есть среднего и нижнего Поволжья, а также части южных приграничных территорий.
В 1550 году вводится Судебник Ивана Грозного. Власть наместников и волостелей вновь ограничена, и дела о ведомых разбойниках всецело переходили под юрисдикцию губных старост. Отныне наместники не могли вершить суд без присутствия выборных людей. Статья 62 гласила: "А боярам и детем боярским, за которыми кормление с судом боярским, и им судити, а на суде у них быти дворскому и старосте и лучшим людем…Без дворского, старосты и целовальников наместникам и их тиунам суды не устраивать…взяток наместникам, их тиунам и их людям не брать".
Нельзя не упомянуть и о практике судебных поединков, что также нашла отражение в Судебнике. То был, по сути, "Божий суд". Когда следствие и суд заходили в тупик, применяли этот способ решения. На Руси его называли "полем". Но Судебник уже ограничивал круг участников: "Поле" не могло быть между "бойцом" и "небойцом" (женой, немощным, стариком, отроком, священником или монахом), разве что сам "небоец" того желал. В противном случае можно было выставить вместо себя "наймита"(наемника).
В 1552 году впервые упоминается Разбойный Приказ, хотя, скорее всего, он существовал уже с 1545 года. Система приказов, заложенная еще при Иване III, при Иоанне IV получила дальнейшее развитие. Приказы являли собой прообраз современных министерств. Отныне Разбойный Приказ ведал воровством, разбоями, убийствами, поджогами, колдовством и даже браконьерством, что также считалось воровством. В компетенции приказа находились и тюрьмы, и прочие места лишения свободы. Во главе приказа стоял судья, которого избирали из числа Боярской думы. Ему в помощь назначался второй судья, обычно более скромного происхождения. Ниже стояли дьяки, как правило, двое-трое, и подьячие. Низшие должности занимали приставы, сторожа и палачи. Все работники приказа набирались из людей, уже имевших опыт борьбы с преступностью. Так, для примера, упоминаемые в том же году, дьяк Григорий Теряев был выходцем из губных старост, а подьячий Дмитрий Шипулин – сыщиком.
Судьи осуществляли общее управление, дьяки кропотливо заведовали сонмом подьячих, а последние, словно закаленные в горниле правосудия, становились истинными профессионалами своего дела. В отличие от судей, чьи должности могли меняться, подьячие десятилетиями врастали корнями в свои места, досконально изучая хитросплетения законов и судебных прецедентов. Именно они поддерживали постоянную связь с подотчетным людом, неустанно разъезжая по уездам в сопровождении сыщиков, осуществляя контроль на местах.
Драгоценным источником сведений о деятельности Разбойного приказа служит “Уставная книга Разбойного приказа” 1555-1556 гг. Она являет нам разительные перемены: если Судебник 1550 г. опирался на архаичные методы доказательства, такие как судебные поединки и крестное целование, то “Уставная книга” вводит прогрессивный сыскной процесс, признание вины под пытками и “облихование” во время обыска. Быть может, взыскательный читатель возмутится: разве можно доверять показаниям, вырванным под пыткой? Но не стоит забывать, что наши предки были отнюдь не глупее нас, и пытки применялись не как средство слепого насилия, а как инструмент для выявления правды и отличие ее от лжи. Пытали не более трех раз, тщательно собирали свидетельские показания, досконально осматривали место преступления, скрупулезно фиксируя каждую деталь. Проверялись связи и контакты подозреваемых. И если в ходе первой пытки обнаруживались нестыковки, назначалась вторая, а при необходимости и третья. Выявить противоречия было вполне возможно. При обысках же учитывались голоса людей, знавших подозреваемого. Если мнения разделились: одни называли его добрым человеком, другие – лихим, то к подозреваемому применялась однократная пытка.