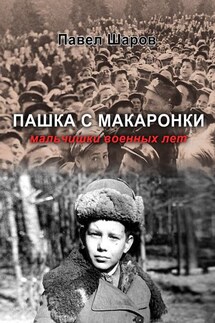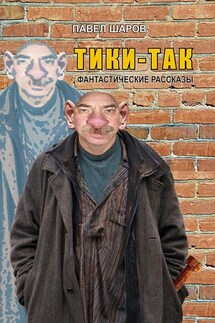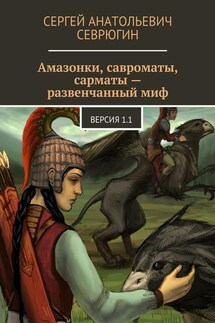История одного содружества - страница 5
Вот это была работа! Павел описывал конструкции своих предыдущих разработок, отмеченных свидетельствами на изобретения, сдобренные теоретическими изысками, накопленными в многочисленных статьях и научно-технических отчетах по научно- исследовательским работам. Конструктора разрисовывали эти конструкции на листах стандартного формата, женский состав лаборатории рисовал на кальках графики, секретарша в поте лица перепечатывала полученные прямо из-под пера диссертанта научные перлы. В общем, коллективными усилиями успели состряпать «кирпич» – в два раза превышающий установленные размеры, – и Павел поехал в Харьков, где в институте радиоэлектроники предстал перед советом с предварительным отчётом по проделанной за четыре года работе.
– Много, – сказал ему председатель Учёного совета.
Павел покраснел. Ему казалось, что председатель, чувствуя себя в своей среде, скажет сейчас откровенно – чего много. Но тот подумал, подобрал нужное слово и сказал:
– Лишнего… материала много. А в остальном всё здорово. Приезжайте на окончательную защиту с укороченным в два раза вариантом.
Через несколько месяцев в 1972 году Павел выехал в Харьков в Институт радиоэлектроники с укороченной диссертацией и трёхлитровой канистрой спирта. Защищаться должны были двое. Сначала Владимир Зайцев – преподаватель этого института, затем Павел – начальник лаборатории микроэлектроники из Горького. Главным оппонентом у Зайцева был член-корреспондент Академии наук Сергей Сергеевич Глушков. Он же – руководитель диссертационной работы Павла. Когда Павел с Зайцевым встречали Глушкова в аэропорту, тот очень удивился:
– А вы, Шторов, чего тут делаете?
– Я, Сергей Сергеевич, тоже защищаюсь и прошу Вас как руководителя выступить на совете.
Слова Павла озадачили Глушкова. Дело в том, что единственные его встречи с диссертантом Шторовым были посвящены сдаче ему кандидатского минимума по основному предмету, а также обсуждению того, чего диссертант хочет изобразить в диссертации. Ещё одна встреча состоялась, когда Павел поймал руководителя своей диссертационной работы у входа в подъезд его квартиры в Москве, и, пока они поднимались в лифте на двадцатый этаж, руководитель успел подписать напечатанный Павлом положительный отзыв на диссертацию. В мучительный период написания диссертации по причинам, изложенным выше, Павел никак не мог встретиться с руководителем, поскольку он, этот период, был довольно стремительным.
Надо отдать Сергею Сергеевичу должное, он весьма продуктивно выступил в защиту Павла.
– Во-первых, – сказал он, – я бы хотел сообщить совету, что был весьма слабо посвящён в результаты работы моего подопечного.
Члены совета и Павел насторожились. Начало-то панихидное.
– Диссертант проявил завидную самостоятельность, – продолжал Сергей Сергеевич, – он сделал, собственно, всё сам. Сейчас, оценивая его труд, я несколько удивлён, как в области, достаточно исследованной, можно было найти столько новых и интересных решений. Использование его изобретений с соответствующей теоретической и практической проработкой фактически видоизменило технику измерений СВЧ-мощности, повысив качественные и экономические параметры этой техники.
И далее в том же духе. Павел был принят на ура. Пятнадцать положительных шаров из пятнадцати возможных. Один из заведующих кафедрой, которому он между делом пообещал достать нужную для эксперимента аппаратуру, заговорил при обсуждении диссертации, что он бы не прочь поставить вопрос о присуждении автору степени доктора наук. Павел вздрогнул: «Если это зерно даст всходы, то в Высшей аттестационной комиссии в Москве меня наверняка забракуют». Но всё хорошо, что хорошо кончается. Пронесло на уровне кандидатской.