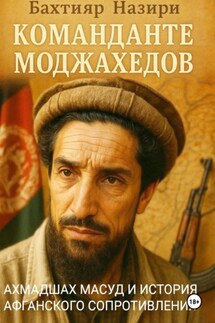История папства - страница 20
Когда христианская церковь стала церковью имперской, руководство ею в тот момент осуществлялось еще на коллегиальной основе, посредством соборов, участие в которых принимали равные по рангу епископы. Однако уже тогда внутри церковного синклита, состоявшего из равных по рангу епископов, стала усиливаться тенденция к установлению монархического принципа в руководстве церковью. Победе этого принципа и способствовал Константин, когда он низвел собор, орган фактического управления церковью, до роли совещательного, консультативного собрания.
Когда и как происходили первые случаи вмешательства имперской верховной власти в церковную жизнь с целью укрепления единства церкви? На Западе папа Мильтиад боролся с ересью донатизма. Уже в октябре 313 г. в Латеранском дворце, подаренном папе императором, состоялся собор, в котором участвовали три епископа из Галлии и пятнадцать – из Италии; собор осудил донатизм, а самого епископа Доната предал анафеме. По-видимому, большого эффекта эти постановления не имели, так что император решил взять дело в свои руки. В 314 г. он собрал епископов Запада в Арле, где донатизм был вновь осужден, но с самой ересью покончить так и не удалось.
Ересь, возникшая в Северной Африке и связанная с именем карфагенского епископа Доната (носил епископский сан с 313 по 360 г.), восходила к учению апостола Иоанна и признавала лишь невидимую церковь праведников, «чистых», находящихся в состоянии благодати. Поэтому сторонники этого направления выступили против официальной церкви, которая довольствовалась минимальными требованиями (в сфере догматики и церковной морали) к верующим, а господствующие позиции себе обеспечивала, освящая институт имперской власти. Собственно говоря, донатизм как еретическое движение стал идеологическим выражением социального и национального протеста коренного берберо-пунического земледельческого населения Северной Африки против римских крупных землевладельцев. (Донатизм как движение и донатистская церковь, несмотря на беспощадные преследования, существовали вплоть до V в., когда были уничтожены вандалами.)
На Востоке наиболее значительной ересью в эпоху Константина было арианство, зародившееся в Александрии и Антиохии. Пресвитер Арий (260?–336) учился в Антиохии, в Александрии же был простым священником. С его полемического выступления о том, что такое Троица, началась длившаяся столетиями дискуссия вокруг уяснения учения о Троице. (В учении о Святой Троице, говорящем, что Бог един в трех лицах, рудименты политеизма присутствуют так же, как и элементы коллегиальности. Арий и его сторонники и в этом вопросе последовательно стремились реализовать воплощение тех монархических тенденций, которые быстро завоевывали позиции внутри восточной церкви, стремились увидеть подтверждение того иерархического подхода, который всюду предполагает наличие строгой субординации.) Согласно Арию, Сын – творение Бога Отца, он не единосущен с Богом, следовательно, он не Бог, а лишь творение Божие. Отсюда логически вытекало отрицание Марии как Богоматери, равно как и отрицание Искупления, а это подрывало самые основы религиозной системы христианства.
Различные еретические движения были территориально связаны с теми или иными экономическими и культурными центрами империи. Соперничество, неизбежное между ними, вело к возвышению и укреплению позиций одного какого-то центра. Партикулярные властные устремления, находившие в них свое выражение, угрожали единству империи. В то же время еретические движения в основе своей носили социальный характер. Враждебное отношение угнетенных групп и слоев населения к власти, к Риму, проецируясь на религию, порождало неприятие господствующего вероучения и официальной церкви. Христианство стремилось к гомогенизации античной культуры, в то время как культурное наследие отдельных регионов пыталось противостоять универсальной христианской культуре, тем самым вольно или невольно питая еретические учения. В конечном счете ереси являлись неизбежными спутниками процесса формирования христианского учения, представляя собой тупиковые ответвления в ходе поиска общего пути. Во многих случаях еретические учения – теперь уже на почве христианства, внутри христианства – были отголосками, пережитками прежних, языческих религий; со временем они или встраивались в вероучение, воспринимаемое верующими как ортодоксальное, или окончательно отмирали.