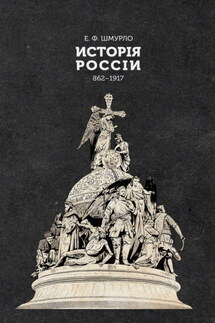Исторія Россіи. 862—1917 - страница 6
Такого рода помѣхъ своему культурному развитію Зап. Европа не знала: ея жизнь протекала въ условіяхъ несравненно болѣе благопріятныхъ. Набѣги норманновъ были явленіемъ временнымъ; норманны явились въ Европу не племенемъ, а лишь какъ военная дружина; они приняли ея языкъ и культуру и легко, незамѣтно слились съ туземнымъ населеніемъ. Послѣднее можно сказать и о мадьярахъ. Что же касается арабовъ, то ещё вопросъ, чего больше: зла или добра – внесли они въ европейскую жизнь? Арабы явились въ Европу въ пору высокаго развитія своей культуры: послѣдняя, въ нѣкоторыхъ отрасляхъ, даже превосходила культуру тогдашняго христіанскаго міра, и завоеванія арабовъ, нанеся временное зло, неизбѣжное при всякихъ войнахъ, обогатили европейскій міръ полезными знаніями (медицина, математика, географія, архитектура, поэзія, философія).
Пагубно было появленіе въ Европѣ османскихъ турокъ, но и то не столько для Западной, сколько для Юго-Восточной (Сербія, Болгарія, Австрія, Венгрія, Польша); да и тутъ тяжесть борьбы въ значительной мѣрѣ пришлось раздѣлить той же Россіи.
6. Лѣсъ и Поле (Сѣверъ и Югъ)
Другая особенность Русской равнины: дѣленіе ея на двѣ полосы, на Поле и Лѣсъ, на чернозёмно-степную и звѣроловную; одна для пахаря и скотовода, другая – для охотника, пчеловода, промышленника. Граница между этими полосами шла съ юго-запада на сѣверо-востокъ, отъ устьевъ Десны до устьевъ Оки, по линіи Кіевъ – Нижній Новгородъ.
Судьба и здѣсь оказалась мачехою для русскаго человѣка: чернозёмный, степной югъ лежалъ въ районѣ набѣговъ азіатскихъ кочевниковъ. «Южный земледѣлецъ долженъ былъ жить всегда наготовѣ для встрѣчи врага, для защиты своего пахотнаго поля и своей родной земли. Важнѣйшее зло для осѣдлой жизни заключалось именно въ томъ, что никакъ нельзя было прочертить сколько-нибудь точную и безопасную границу отъ сосѣдейстепняковъ. Эта граница ежеминутно перекатывалась съ мѣста на мѣсто, какъ та степная растительность, которую такъ и называютъ перекати-полемъ. Нынче пришёлъ кочевникъ и подогналъ свои стада или раскинулъ свои палатки подъ самый край пахотной нивы; завтра люди, собравшись съ силами, прогнали его или дарами и обѣщаніемъ давать подать удовлетворили его жадности. Но кто могъ ручаться, что послѣзавтра онъ снова не придётъ и снова не раскинетъ свои палатки у самыхъ земледѣльческихъ хатъ? Поле, какъ и море, – вездѣ дорога, и невозможно на нёмъ положить границъ, особенно такихъ, которыя защищали бы, такъ сказать, сами себя. Жизнь въ чистомъ полѣ, подвергаясь всегдашней опасности, была похожа на азартную игру».
Въ Лѣсной сторонѣ нѣтъ степного раздолья, зато жизнь безопаснѣе и работа домостроительства устойчивѣе и вѣрнѣе. «Лѣсъ по самой своей природѣ не допускалъ дѣятельности слишкомъ отважной или вспыльчивой. Онъ требовалъ ежеминутнаго размышленія, внимательнаго соображенія и точнаго взвѣшиванія всѣхъ встрѣчныхъ обстоятельствъ. Въ лѣсу главнѣе всего требовалась широкая осмотрительность. Отъ этого у лѣсного человѣка развивается совсѣмъ другой характеръ жизни и поведенія, во многомъ противоположный характеру коренного полянина. Правиломъ Лѣсной жизни было: десять разъ примѣрь и одинъ разъ отрѣжь. Правило Полевой жизни заключалось въ словахъ: либо панъ, либо пропалъ. Полевая жизнь требовала простора дѣйствій; она прямо вызывала на удаль, на удачу, прямо бросала человѣка во всѣ роды опасностей, развивала въ нёмъ беззавѣтную отвагу и прыткость жизни. Но за это самое она же дѣлала изъ него игралище всякихъ случайностей. Вообще можно сказать, что Лѣсная жизнь воспитывала осторожнаго промышленнаго политическаго хозяина, между тѣмъ какъ Полевая жизнь создавала удалого воина и богатыря, беззаботнаго къ устройству политическаго хозяйства» (Забѣлинъ).