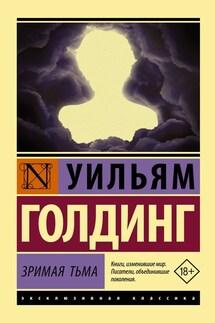История русского раскола старообрядчества - страница 8
Некоторые из обвинений преп. Максим совершенно отвергал, в других оправдывался недостаточным знанием русского языка, в иных же не сумел оправдаться. Дело кончилось тем, что Максима осудили и сослали в Волоколамский монастырь (в 1525 г.). Здесь ему запрещено было писать и получать письма; его мучили голодом, холодом, дымом и т. п. Но Максим считал себя невинным, переписывался с преданными ему людьми и оправдывал свои действия. Между тем, в переведенных и исправленных им книгах были найдены новые погрешности. В 1531 г. его снова позвали на собор. Здесь были прочитаны некоторые места из переведенного им жития пресвятой Богородицы, говорящие, по-видимому, против девства Богоматери, напр.: «Иосиф… обручает себе отроковицу… совокупления (вместо совещание) же до обручения бе» и др. Затем, было указано, что Максим загладил в книге Деяний св. Апостолов слова 8-й гл. 37 ст., говорящие о вере в Иисуса Христа, как Сына Божия, а из Троицкой вечерни вычеркнул большой отпуст. Повторялись и прежние обвинения. Преп. Максим оправдывался, но отцы собора нашли в его сочинениях признаки ереси жидовствующих и осудили, «аки хульника и св. писаний тлителя»: отлучили от причастия Христовых тайн и в оковах отправили в тверской Отрочь монастырь. Сотрудников его также осудили: Михаил Медоварцев был сослан в Коломну, а старец Силуан – в Волоколамский монастырь и там задушен дымом. Находясь в заключении, преп. Максим написал «Исповедание веры», из которого ясно было видно, что он не содержит никаких еретических мыслей; однако заточение его продолжалось. Тверской епископ Акакий (1522–1567 г.) старался, насколько было можно, смягчить его положение. Максиму дозволено было писать и держать при себе книги, а митр. Иоасаф разрешил ему приобщаться святых тайн; в 1553 г. преп. Максим был переведен в Троицко-Сергиеву лавру и принят здесь с честью, а в 1556 г. скончался.
Меры к исправлению книг, принятые правительством. Несмотря на неудачу, исправление древлеписьменных книг преп. Максимом Греком имело благотворные последствия. Мысль его о необходимости исправления книг была усвоена самим правительством и к осуществлению ее были приняты меры; самый способ его исправлений был признан впоследствии вполне правильным и применен к делу: наконец, еще при жизни его, сам царь Иоанн Васильевич Грозный заявил на Стоглавом соборе, что «божественные книги писцы пишут с неправильных переводов (списков), а написав не правят же; опись к описи пребывает и недописи и точки не прямые» (Стоглав. гл. 5). Сознавая эту неисправность, отцы Стоглавого собора постановили, чтобы в городах поповские старосты и избранные священники пересмотрели по церквам богослужебные книги и, если они окажутся неисправленными и сомнительными, исправляли бы их собором с добрых переводов; чтобы писцы писали книги также с добрых переводов, да написав правили бы, а потом продавали; а тем, которые будут продавать книги неисправленные, возбраняли бы с великим запрещением (Стоглав. гл. 28). Это постановление не могло принести существенной пользы, потому что трудно было установить контроль над списыванием книг и отыскать добрые, исправные переводы; не было и лиц, умеющих отличить исправные переводы от неисправных.