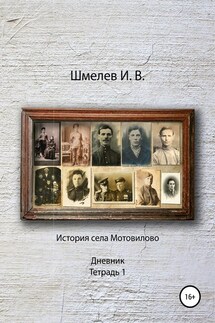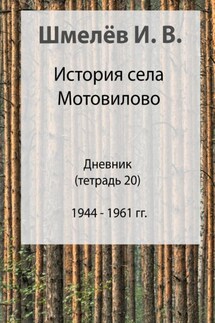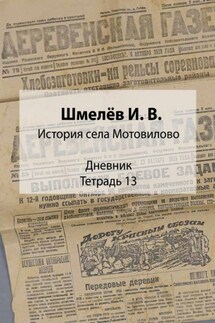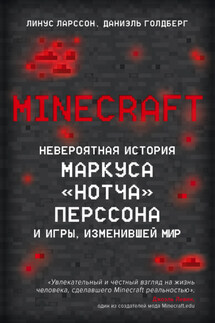История села Мотовилово. Дневник. Тетрадь 20 - страница 4
А эта угроза «обрезать землю по самый угол» значила, что человека лишат земли – единственного средства существования. На приусадебной земле колхозники сажали картофель, платили налог натурой – 17 кг с сотки земли, и, продавая картофель городским жителям, на деньги платили неимоверные денежные налоги, а их было не менее десяти!
Из колхоза урожайный хлеб ежегодно в государство забирали под метёлку, поэтому хлеб был всему голова, и с языка колхозников слово «хлеб» не сходил во все времена. В село часто наведывались «менялы» – люди городского местопребывания. Они выменивали у колхозников картошку на разного рода «барахло» и посуду – чугуны и миски. К тому же, во время войны, в её начале, в Мотовилово привезли эвакуированных детей из Ленинграда, и в здании школы (оборудованной из церкви) открыли так называемый «Дом малютки». С детьми прибыло много и взрослого населения – ленинградцев, которые обслуживали «Дом малютки», жили на квартирах у колхозников. Эвакуированные получали по карточкам печёный хлеб (которого колхозникам по закону, видимо, не полагалось), и они (эвакуированные) променивали хлеб колхозникам на коровье масло (у кого оно было), яйца и прочий продукт, почти вес на вес – вот каково было значение хлеба! Жёнам колхозного начальства – председательше, жёнам кладовщиков и прочих тыловых сатрапов, часто ходить на колхозную работу было некогда. Они на себе не пахали, не жали и не молотили, а хлеб в их мазанках водился: им в поле ходить «некогда», они благотворительно обслуживали менял, выменивая у них нарядные платья, платки, жакетки, туфли и прочее барахло, одним словом, были заняты своим благоустройством за счёт колхозников-тружеников. Без всякого чувства совести, без всякого должного сочувствия к страданиям, людям-односельчанам, но с явным признаком какого-то высокомерия и чопорства, неудержимого желания насмехаться, укольнуть и причинить обездоленному боль, трудились «во имя победы» колхозные сатрапы-тыловики. Ведь сверх всякого нахальства, отважно отсиживаться в тылу, «доблестно» трудиться «на нужды фронта», нахально присваивать плоды тружеников-колхозников, наслажденно преспывать с жёнами фронтовиков, регулярно почитывать газеты со сводками о положении на фронте и отыскивать свою фамилию в списке награждённых?!! Одним словом, колхозные начальнички-прозелиты царствовали, пировали, а колхознички-труженики на них работали: хлеб сеяли, хлеб жали, хлеб молотили и хлеб не ели. Страна требовала хлеб для фронта и для «боевого тыла», а труженики-колхозники, производители этого хлеба, кормилицы всего народа – разве они не тот же «боевой тыл», разве они не имеют право есть хлеб, тем более производимый ими же? Увы! Оказалось, что они не имели права есть свой же хлеб!?! Видимо, «кто работает, тот да не ест!»
В этом 1944 году урожай был отменный; бабы-колхозницы на колхозном поле вручную нажали и наставили множество хлебных кладей – лелеяли в себе надежду получить в этом году из колхоза хлебца, по меньшей мере грамм по 200 на трудодень, но их надежда рухнула, едва «дали» по 100 грамм. Хлеб молотили всю осень, клади снопов убывали, а хлеба в колхозных амбарах не прибывало: прямо с тока увозили его в государство, а хлеб, предназначенный разделу на трудодни, на глазах колхозников куда-то исчезал. Хлебом бесцеремонно, самовластно распоряжался сам председатель Карпов: хлеб возами возили в Арзамас на базар его приспешники, прихлебатели, причандалы, которые оказались тоже с хлебом. Вырученные деньги безучётно клали в карман Ивану Ивановичу, и он ухнул хлебец почти весь, который остался после расчёта по госпоставке государству! Некоторые недовольных колхозники-труженики, видя такое нахальство и вероломство, пробовали высказывать своё недовольство, но писанными законами и постановлениями это преследовалось и строго каралось, и люди были вынуждены пойти на воровство и хитрость, действуя по принципу: «мелочь ворует, а крупнота – берёт!», «не подмажешь – не поедешь!» Непокорных «грамотных», не умеющих держать язык за зубами, бесцеремонно отправляли на фронт или на лесозаготовки, не жалея даже калек и одиноких женщин. «Пусть грех будет на моей душе!» – высказался однажды военком Мирохин, отправляя на фронт явно неполноценного человека Васю Попова. А посылая на лесозаготовки в зимнюю стужу одного строптивого колхозника, Карпов высказался так: «Как же это мы не докумекали, прохлопали, ранее его не послали? Но лучше поздно, чем никогда, издадим приказ, а приказ – есть закон для подчинённого!» «Кого хочу – помилую, кого хочу – казню!»