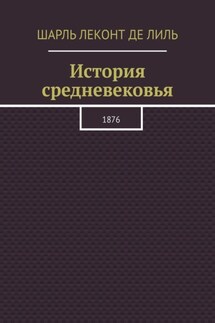История средневековья. 1876 - страница 3
Эта двойная иерархия, это множество подчиненных чиновников увеличивали пышность двора, истощая государство, вынужденное ежедневно требовать все больше налогов, в то время как всеобщая нищета была такова, что люди отказывались заводить семьи. Самым ненавистным налогом был подушный налог, capitatio. Для поземельного налога сумма, причитающаяся с каждой провинции, определялась на основе кадастра, пересматриваемого каждые пятнадцать лет (Indictio). Установленный, возможно, в 312 году Константином, этот пятнадцатилетний период известен как Цикл Индикций. Существовала также Capitatio plebeia, которой облагались ремесленники, поденщики, колоны и рабы, чьи налоги платили их хозяева. Aurum lustrale, Lustralis collatio или Chrysargyre взимались с торговли и промышленности с такой строгостью, что даже самые бедные не могли избежать их. Если к этим общим налогам добавить огромные сборы с аукционных продаж, наследств, освобождения рабов, обременительные обязанности по размещению солдат и магистратов в командировках, содержанию общественных дорог и т.д., то становится понятной полная хитростей и насилия война между налогоплательщиками и фискальными агентами. Владения императора, естественно, были освобождены от всех налогов, и Церковь получила ту же привилегию. Эта прерогатива распространялась и на большинство богатых классов, так что бюджетные расходы полностью ложились на городскую буржуазию. Корпорации, созданные со времен Александра Севера городскими ремесленниками, превратились в тюрьмы, из которых правительство запрещало им выходить, чтобы заставить граждан работать и остановить снижение производства. Мелкие землевладельцы в сельской местности, разоренные непрерывными войнами или обобранные крупными землевладельцами, были вынуждены становиться колонами богатых, оказывались прикованными к земле и теряли, если не звание, то хотя бы права свободного человека. Это моральное и материальное унижение породило отвращение к труду, и население сократилось до такой степени, что пришлось заселять опустевшие провинции колониями варваров.
Таким образом, прогресс имперского деспотизма вскоре уничтожил последние свободные институты, сохранившиеся в муниципальном режиме. По образцу Рима каждый город действительно имел своего рода сенат, называемый Курией; он состоял из землевладельцев, имевших не менее двадцати пяти арпанов земли. Они назывались куриалами. Именно из их числа выбирались декурионы, или специальные члены Курии. Во главе их стояли дуумвиры, чья власть была только годовой и чьи полномочия заключались в председательстве в совете, общем управлении делами города, поддержании порядка и т. д. Но когда, чтобы удовлетворить потребности ненасытной роскоши и купить всегда сомнительную верность армий, императоры были вынуждены умножать налоги, положение куриалов стало невыносимым. Именно они, как администраторы доходов и интересов муниципий, собирали государственные налоги под ответственность своих собственных имуществ. Однако земельный налог, становившийся все более тяжелым, привел к заброшенности большей части земель, и фиск решил переложить налог с невозделанных полей на плодородные. С тех пор куриалы, уверенные в своем разорении, пытались всеми способами избежать своих обязанностей, либо вступая в духовенство или армию, либо переселяясь к варварам. Со своей стороны, государство, не желая лишаться налогоплательщиков и гарантов своих доходов, принимало самые жесткие меры, чтобы удержать их. Дошло до того, что смертной казнью наказывали того, кто давал приют члену Курии, уклоняющемуся от своей должности. Евреи и еретики были допущены к этой должности, и в конце концов даже преступников приговаривали становиться куриалами; но все усилия властей привели лишь к тому, что небольшое число граждан оказалось прикованным к нищете и отчаянию.