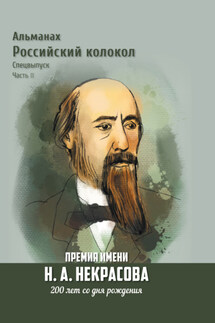История Введенского женского монастыря в Тихвине - страница 11
Другим способом ликвидации русских монастырей в том виде, в каком они сложились за тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви, было преобразование их в некие благотворительные учреждения. В 1869 году известная в то время игумения Митрофания (в миру баронесса Розен) составила удостоившийся внимания Императорского двора проект преобразования женских монастырей в Епархиальные общины сестер милосердия. Проект этот едва не получил утверждения, но, по рассмотрении назначенною правительством комиссией, был отвергнут.
Сделано это было на основании записки, составленной и представленной одним из членов упомянутой комиссии, отцом архимандритом Сергиевой пустыни, что близ Петербурга, Игнатием Малышевым: «Проект игуменьи Митрофании не применим к монастырям и к монашествующим лицам: это вполне светское учреждение. А монастыри и монашество вполне духовныя учреждения. Справедливость требует всякому предоставить идти своим путем; желающая быть сестрой милосердия не пойдет в монахини, а призванная в монашество не пойдет в сестры милосердия. Насилие же ни в коем случае не должно быть допущено: крепостное право уже не существует. … Пресловутая по учреждениям Англия с завистью смотрит на наши обители, усиливается учредить у себя подобныя, но одни человеческия средства недостаточны безъ благодати Божией.… К несчастию, многие из нас порицают без разбора все свое, громко возглашая против святых обителей. Не защищаю их недостатков,– это иной вопрос, требующий уяснения, кто в этом более виноват; но не следует забывать повеления нашего Искупителя, который во притче о плевелах, на предложение исторгнуть их, отвечал; «Ни, да не когда восторгающее плевелы, восторгнете купно с ними и пшеницу. Оставите расти обое купно до жатвы». (Мат., гл.13. Зач. 52). Не следует тревожить Марию,– Марфы найдутся. Мы указали, по возможности, с духовной точки зрения, на невозможность соединить светския учреждения с духовными». [60, c. 690-695]
И подобные попытки обосновать ликвидацию монастырей, под самыми благовидными предлогами, были не единичны. «Теперь монашество по мнению многих и безплодно, и ненужно. … Духовная роль монашества в обществе кончилась. И вина этого лежит на самом же монашестве. Мы рабски восприняли восточный устав иночества с его минимумом организации, и нисколько не постарались развить его приспособительно к нашим культурным условиям. В этом отношении Западное монашество стоит гораздо выше нашего. Оно рано сорганизовалось в разнаго рода ордена. С различными целями и приспособленными к ним различными уставами жизни. … Ничего подобнаго с русским монашеством не случилось, никакой дифференциации в своем развитии оно не достигло». [61, c. 262-263]
Автор статьи, в качестве примера и образца для подражания, приводит Западно-Европейские монашеские ордена, в которых он не видит никаких недостатков, в отличие от русских обителей. Предлагаются самые разнообразные, просто экзотические варианты, но цель их одна- ликвидация русских монастырей в том виде, в каком они сложились к концу XIX века.
«Почему бы, например, лицам строго аскетическаго настроения не образовать особаго ордена…. Не заняться исключительно культивировкой созерцательной жизни, строгаго подвижничества… могли бы быть отданы те обители, которыя по своему географическому положению особенно пригодны для подвигов уединения и поста.… лицам, ищущим монашескаго уединения, но желающим служить и науке…. Могли бы собраться в обителях, находящихся в больших культурных центрах (Москва, С.-Петербург, Киев, Казан и др.)». Предлагается многое- ввести в монастырях образовательный ценз, завести некую высшую школу (Духовные академии, видимо, таковыми не признаются). Образовать орден проповедников и миссионеров- миссионерская деятельность Русской Православной Церкви опять таки не упоминается.