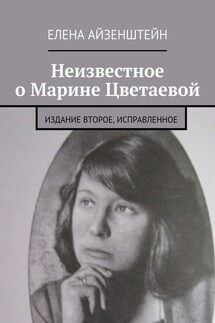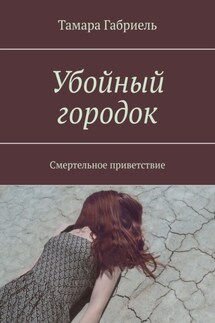Из моей тридевятой страны. Статьи о поэзии - страница 25
На наш взгляд, «Муха» написана Бродским в качестве утверждения одной из главных мыслей, в которых он находил поддержку для творчества. Эта мысль выражена в формуле: «В сумме, души любое превосходят племя». Эти души – души любимых Бродским поэтов, тех, чьи стихи он вспоминал, когда писал свою «Муху». Вредоносность мухи соотносится с «вредностью» самого Бродского, вынужденного в 1972 году эмигрировать за границу, с бесполезностью искусства, враждебного казенщине, государственному, чиновничьему, обывательскому взгляду на жизнь. «Мушка» – часть огнестрельного оружия. Выражение «взять на мушку» обозначает прицел; беседа с мухой – ощущение прицела мушки жизни, но в отношении Бродского к мухе что-то от японцев и японской поэзии, умение увидеть поэзию в таком мелком, невзрачном и нездоровом существе:
Бродский рисует жизнь мухи от апреля до осени, от начала ее жизни на кухне до ее грядущего умиранья, которое поэт видит далеким, потому что с умираньем мухи отождествляет свой уход из этого мира. Разговор с мухой – это беседа историка, «смерть для которого скучней, чем мука», с воображаемым вторым «я», которое не мешает ему думать.32
Упоминаемая в первой главке лучина («Лучина печку растопила») напоминает русскую «Лучинушку», которую Пушкин цитировал в стихотворении «В поле чистом серебрится… и возникшую на пушкинской почве «Лучину» Цветаевой, с ее возгласом к России: «‒ Россия моя, Россия, ‒/ Зачем так ярко горишь?» По-видимому, находившийся в США Бродский, тосковавший по родине, мог бы по-цветаевски воскликнуть: «‒ Россия моя, Россия, – / Зачем так ярко горишь?», тем более что в своем стихотворении Цветаева сравнивает русскую лучину с Эйфелевой башней, а Бродский видит свою муху родственницей ее подруги, взлетевшей на Эйфелеву. Бродский намеренно рисует пространство вокруг мухи неяркими, домашними и даже низкими эпитетами, воссоздавая многообразие и сложность жизни («ползешь по глади / замызганной плиты», «дух лежалый/ жилья, зеленых штор понурость. /Жизнь затянулась»).
Обращение к мухе «цокотуха» вызывает у читателя улыбку, напоминая о «Мухе-Цокотухе» К. И. Чуковского. Нет выросшего русского ребенка, который бы не любил «Муху-Цокотуху», и это сразу привязывает разговор о мухе к разговору о поэзии, потому что Бродский – ее сын. Сказка Чуковского, написанная в 1923 году и опубликованная под другим названием, поначалу была запрещена цензурой: во фразе «А жуки рогатые, – Мужики богатые» комиссия Государственного Учёного Совета увидела «сочувствие кулацким элементам деревни». Впервые под названием «Мухина свадьба» сказка была напечатана издательством «Радуга» в 1924 году с иллюстрациями В. Конашевича. Шестое издание сказки в 1927 году впервые вышло под современным названием. Бродский мог видеть соответствие между трудной судьбой своего творчества, на родине читавшегося в самиздате, и судьбой детской сказки. Семье Чуковского Бродский был обязан хлопотами, связанными с его досрочным освобождением. Кроме того, 26 октября 1965 года