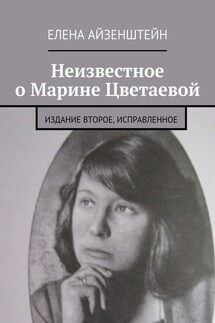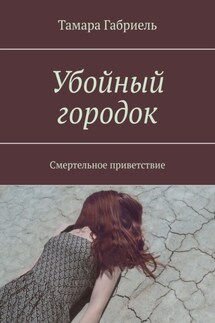Из моей тридевятой страны. Статьи о поэзии - страница 29
«Ихнее» – детское, просторечное слово, передающее отсутствие дистанции между Бродским и мухой, к которой он относится «по-свойски». Затылок поэта молодого рыжеволосого Бродского по цвету напоминал древесные опилки, родственные деревьям и бумаге, на которой записываются стихи, что соотносится с цветаевскими строками о Всаднике-Гении: «вихор ото лба отводила – не Муза» (поэма «На Красном Коне»). В заключительной 21 главке Бродский, размышляя о конце своей и мушиной биографии, пытается сказать о том, что его судьба и судьба его мухи-музы закончится посмертным превращением, нарисованным как бы в двух ракурсах: бытовом и бытийном. Превращение мухи, ее несуществование – переход в почву, в навоз, который должен породить новую муху, новую Музу нового поэта. Тема навоза напоминает финал пастернаковского стихотворения «Март» (1946), в котором поэт изображал свежесть жизни, ее преображение послевоенной весной: «Пахнет свежим воздухом навоз». Мотив весеннего обновления звучит и у Бродского в «Мухе», только в концовке его стихотворения явно сквозит самоирония:
Последняя ироническая рифма: навозу – метаморфозу. Конечным в стихотворении оказывается слово, обозначившее преображение, которое, намеренно или нет, хотя и в саркастической форме, создает смысловую перекличку с «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» Пушкина, с «Завещанием» Заболоцкого. Бродский вспоминает о небесном Зодиаке, живописует свое преображение после смерти как тлен тела и вознесение души в созвездие других поэтов. В 1985 году Бродский задумывался о поэтическом бессмертии. Свой физический конец и смерть своей мухи поэт рисовал в северных широтах, на родной земле. Иосиф Бродский не дожил до своего семидесятилетия, но его «Муха» переживет автора, вероятно, не на одно столетие.40
2011
«Колокол с эхом в сгустившейся сини…»
Рождественские стихи Иосифа Бродского
Поэзия Иосифа Бродского, как мир всякого большого поэта, слагается из разных русл и течений41. Среди всего этого многообразия выделяются стихи на рождественскую тему. В Москве отдельной книжечкой рождественские стихи были изданы в 1993 году, по инициативе П. Л. Вайля. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее: «От христианина-заочника». «Независимо от степени и характера религиозности в стихах Бродского, одно несомненно – именно он возвратил в русскую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс», – отмечал Л. Лосев. 42«Юный Бродский, не принадлежа ни к какой религии и не имея даже начатков религиозного воспитания, оперирует понятиями „душа“ и „Бог“, принимая религиозное мировоззрение, так сказать, „от противного“, поскольку атеизм для него неотделим от советского политического режима», – писал Лосев здесь же. Для читателя неважно, к какой христианской церкви относит себя Бродский и относит ли; гораздо важнее духовная, метафизическая и творческая глубина, в которую погружается читатель рождественских стихов.