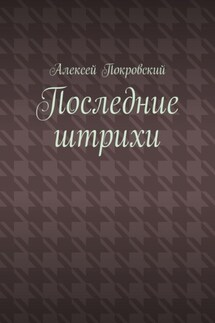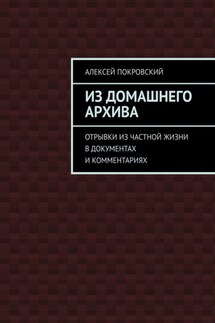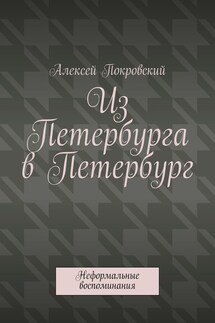Читать онлайн Алексей Покровский - Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания
© Алексей Покровский, 2019
ISBN 978-5-4485-6985-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Это было, было и прошло…
Посвящается моей жене
Покровской Алле Ивановне
(1940 – 1994)
Это было, было и прошло.
Что прошло, то вьюгой замело…»
Александр Вертинский, Раиса Блох
«Почему я пишу?
Потому…»
Блэз Сандрар, 1924 г.
Глава 1. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬИ
А почему Я пишу?
Все проходит, все канет в лету. Сколько людей прожило жизнь, а от них не осталось ничего. По дням и часам восстанавливается жизнь А.С.Пушкина или М. А. Булгакова. Но ведь эпоху составляют и люди никому неизвестные. Если от былых времен осталось хоть какое-то эпистолярное наследство, то в настоящее время, в большинстве своем после смерти остаются квитанции об оплате за квартиру, почетные грамоты, да множество никому не нужных справок – памятник бюрократии. Однако, в домашних архивах пока еще имеются документы эпохи (письма, записки).
В Рождество 2005, находясь в гостях у приятеля, я к слову рассказал о своей жизни. Несмотря на то, что он меня знает очень давно, он настолько удивился, что настойчиво попросил, чтобы я об этом написал. А поскольку и у меня были такие мысли, да я и делал кое-какие заметки, то я решил, не спеша, заняться этим.
Счастливое детство
Я – потомственный петербуржец, знаю свои корни с конца XIX в. Правда, знаю их очень плохо. В детстве я часто просил маму рассказать о своем детстве, так не похожем на мое. К сожалению, мама не оставила никаких воспоминаний, а я не удосужился записать то, что она мне тогда рассказывала.
Слева направо: Георгий, Евдокия Ивановна, Евгения, Александр Николаевич, Ксения Жиряковы (около 1905 г.)
В начале XX в. в Санкт-Петербурге на на М. Конюшенной ул жила простая трудовая семья: отец – солист Придворного симфонического оркестра, его жена и пятеро детей.
Итак, мой дед, Жиряков Александр Николаевич (30.08.1874 – 4.07.1918) был сиротой. Кто были его родители, я не знаю. По-видимому, государство дало ему музыкальное образование за свой счет. Он был солистом Придворного симфонического оркестра, играл на контрабасе (владел и какими-то еще духовыми инструментами). Кстати, его контрабас отличался грифом, который представлял собой не завиток, а львиную голову. Этот инструмент до сих пор находится в оркестре Филармонии. Кроме того, мой дед преподавал в бесплатной музыкальной школе, организованной Н.А.Римским-Корсаковым, в Капелле.
Деду было пожаловано звание «личный дворянин», что означает дворянство, которое не передается по наследству.
У него был брат, о котором в семье никогда не говорили (запрещенная в семье тема) и никогда его не видели. Возможно, он был каким-нибудь революционером.
Я нашел в справочниках «Весь Петербургъ» за 1910 – 1914 г.г. следующее упоминание о своем деде:
Жиряков Алдръ Никл. арт. М Конюшенная 4.
Именно по этому адресу провела свои детские годы моя мама (Евгения Александровна Жирякова-Покровская, 24.12.1902 – 27.10.1985). Этот дом был предназначен для музыкантов Придворного симфонического оркестра.
Бабушка, Жирякова (Васильева) Евдокия Ивановна (? – 1942), происходила из мещанской (я так думаю) семьи, живущей в Старой деревне г. Петербурга. Как я понимаю, это была дружная большая семья. Некоторых из старшего поколения этой семьи я застал еще в живых после войны. Кое-кто сразу после революции эмигрировал в Калифорнию (США). У нас даже остались фотографии двух маленьких девочек-близнецов, родившихся там.
После II мировой войны родственные связи разорвались, более молодое поколение деградировало, генеалогическое дерево, которое хранилось у старшего поколения, пропало.
Я не знаю, какое образование было у бабушки. Думаю, что высшего не было, но она обладала внутренней культурой, музыкальностью, прекрасно пела, играла на фортепьяно, говорила по-французски.
Семья жила так, как жили тогда семьи трудовой интеллигенции (см., например, «Воспоминания» Анастасии Цветаевой и др.).
Работал один дедушка, причем много работал. В семье было пятеро детей (старшие две девочки – Ксения и Евгения и три мальчика – Михаил, Александр и Георгий) и еще жили какие-то родственники.
Как это часто бывало в то время, семья не была религиозной (мама всегда была атеисткой), в церковь ходили, но все это носило больше светский характер.
Дом был хлебосольным, в нем всегда царил дух доброты, благожелательности и веселья. Всей семьей вместе с друзьями весело праздновали Рождество, Пасху и другие праздники. Устраивали розыгрыши, шарады. В веселье участвовали как взрослые, так и дети. Жили очень дружно, весело, часто бывали гости (в том числе и ровесник дедушки, в будущем известный контрабасист и дирижер Сергей Кусевицкий (1874—1951), который в 1920 г. эмигрировал из России.
Другом дедушки был и Палладий Андреевич Богданов (1881 – 1971), который много лет был главным дирижером хора мальчиков Капеллы. Один раз я даже с ним встречался, когда мама хотела, чтобы я учился в Капелле. Запомнилась его фраза: «Очень рано ушел от нас Саша».
Дедушка был из простой семьи, но его приглашали играть в квартетах с членами царской семьи, м.б. поэтому ему и присвоили дворянское звание, которое ничего не добавило.
Летом обычно отдыхали в Финляндии – в Перки-ярви (сейчас Кирилловское), иногда в Петергофе. Там у какого-то символического шлагбаума стоял на посту отец моей бабушки – старый солдат, георгиевский кавалер.
Дети гуляли в парке, часто видели прогуливающуюся царскую семью. Это было естественно, никакой заметной охраны не было.
Первый удар. Конец счастливого времени
С началом Первой мировой войны жизнь усложнилась, но мама ничего об этом не рассказывала, т.к. была далека от быта – в это время она жила и училась в Хореографическом училище и приезжала домой только на выходные.
Осталось только воспоминание о том, что музыкантов оркестра Императорского оркестра вырядили в полувоенную форму, которую дедушка очень не любил, да еще, что когда дедушка сбрил свои бороду и усы и пришел домой, то бабушка его не узнала.
Зато я очень любил, когда мама рассказывала об очень строгой жизни в Хореографическом училище. Об этом написано очень много воспоминаний, поэтому я на этом не буду останавливаться. Это были самые счастливые дни из долгой жизни мамы.
Воспитанницы Хореографического училища
И вот наступил октябрьский переворот 1917 г. Жизнь резко покатилась вниз. Настали голодные дни, разруха, безденежье. Семья была далека от политики. Мама говорила, что она с бабушкой ехала на трамвае мимо дворца Кшесинской, когда там был митинг.
– Кто это выступает? – спросила бабушка.
– Да, какой-то Ленин, – ответили ей.
7 июля 1918 г. дедушка, еле волоча ноги, пришел домой, сел в кресло, сказал: «Как я устал» и умер. Моя бабушка осталась одна с пятью детьми без средств к существованию. Маме пришлось уйти из Хореографического училища, не получив свидетельства об его окончании. Больше она на сцену никогда не вернулась, хотя любила балет до последних дней.
Какие-то «добрые» люди посоветовали бабушке, чтобы самой и детям не умереть с голоду, уехать на Украину. У дедушки был служитель Захаров, который возил на концерты контрабас (теперь музыканты возят инструменты сами). Этот Захаров сказал, что он присмотрит за квартирой. И когда через несколько лет бабушка вернулась в Ленинград, то Захаров ее не пустил и дал только взять что-то из мелочи. Бабушка не была борцом, и в результате она и ее дети оказались без жилплощади. Вплоть до своей смерти в 1985 г. мама больше никогда не жила в отдельной квартире.
От того времени у нас не осталось ничего, кроме нескольких семейных фотографий, да фотографий с автографами – Ф. Шаляпина, польского скрипача и дирижера – Яна Кубелика, дирижера Артура Никиша.
Чудом сохранившиеся фотографии. Автографы – Шаляпина, Яна Кубелика, Артура Никиша
Итак, семья отправилась на Украину и закрепилась в г. Кролевец, недалеко от Полтавы. Об этом времени я знаю очень мало.
Семья либо поселилась в семье священника Данилевского, либо они дружили с этой семьей. Старшая сестра Ксения и мама сразу пошли работать. Мама – секретарем в какое-то учреждение. Когда у власти были красные, маму приняли в партию. Она в этом ничего не понимала. Но когда она принесла домой партийный билет, бабушка его уничтожила. Власти же в городе все время менялась – то красные, то белые, то зеленые и прочие банды.
Михаил, Александр, Ксения, Евдокия Ивановна, Сережа, Евгения (Украина, 1925 г.)
Маминой подругой стала дочь священника Маруся Данилевская и ее брат, который интересовался астрономией, философией. В общем, образовалась хорошая интересная компания. О тяготах того времени мама ничего не рассказывала.
Дальше в моих знаниях наступает пробел.
Старшая сестра Ксения (20.11.1900 – 23.03.1979) стала работать бухгалтером, затем вышла замуж за Михаила Александровича Кастальского (кажется, сына царского генерала и дальнего родственника композитора Александра Дмитриевича Кастальского (1856—1926) – известного русского духовного композитора). Михаил Кастальский, как большинство бывших военных, стал работать бухгалтером. Он вернулся в Петроград и вызвал туда Ксению. К этому времени у них родился сын Сережа. И вот Ксения с большими сложностями с больным сыном отправилась, с пересадками, в теплушках в Петроград. По дороге Сережа умер, и Ксения везла мертвого сына, делая вид, что он живой, иначе бы ее высадили.
Следующий сын, тоже Сережа, был болезненным и, как говорили, очень умненьким мальчиком, философски понимающим, что он долго не проживет – он умер в возрасте 5 – 6 лет. И только третий сын – Евгений (19.02.1925 – 30.09.1980) мой двоюродный брат, выжил, прошел солдатом всю войну, был ранен, дошел до Берлина, потом окончил МГУ и стал геологом. Умер от рака горла в возрасте 54 лет в Москве.
Михаил Кастальский умер во время блокады, Ксения уехала в эвакуацию в Ташкент, всю войну и до выхода на пенсию (в 1955 г.) проработала главным бухгалтером на различных крупных предприятиях Средней Азии, включая урановый завод в Таджикистане. Выйдя на пенсию, она уехала к сыну в Москву, где и умерла от рака молочной железы в 1979 году.
Вернувшись в Петроград (Ленинград), Кастальские жили вместе с моей бабушкой на ул. Римского-Корсакова (второй дом от Садовой) в большой комнате коммунальной квартиры, находящейся на втором этаже. Перед самой войной я бывал в этой квартире. У меня осталось отрывочное воспоминание, как я лежу на широком подоконнике и смотрю на улицу – жду, когда за мной придет с работы мама.
Михаил Кастальский («дядя-папа», как я называл его – ведь Женя называл его папой) был очень веселым остроумным человеком, и я любил бывать у них.
Но вернемся к моей маме. Тут у меня опять пробелы.
Как-то она оказалась в Средней Азии. Ехала в теплушках, на крыше вагона поезда.
В 1927 г., живя в Узбекистане, Евгения познакомилась с молодым инженером (тогда еще звание инженера было высоким) Владимиром Павловичем Покровским, окончившим институт гражданских инженеров в Ленинграде, и через некоторое время вышла за него замуж.
(Владимир Павлович Покровский (1893 – 1973) – окончил Тенишевское училище (1911) и Институт гражданских инженеров (1914); в 1914 – 1917 годах – поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка. В 1920-х годах – инженер завода «Гидравлика». Арестован 19 февраля 1931 года по делу контрреволюционной группы бывших офицеров царской армии, приговорен к 10 годам лагерей; 25 августа 1932 года освобожден условно и назначен на работу в Особый гидротехнический отдел Техотдела ОГПУ в Москве.