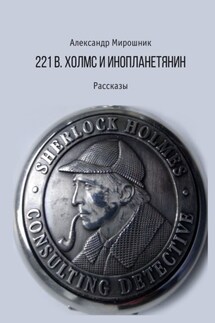Избач. Повесть, стихи, эссе - страница 14
«Опоздал! Он ушёл, а я ему хотел что-то важное сказать… Ну ничего страшного. Придёт и скажу. А, если… Да никаких „если“, придёт, а как иначе?» – не находя себе места, думал Ваня.
Алексей пришёл ближе к обеду. Он был серьёзен и задумчив. Рассказал, что встречался с командиром временно размещённого, для пополнения батальона, направляемой на Миус-фронт дивизии. Тот, узнав его историю и то, что Алексей водитель, предложил пополнить ряды его подразделения. На просьбу Алексея он ответил, что связаться с его бывшим командованием он не сможет, так как это не только другая дивизия, армия, но и фронт не Юго-Западный, а Южный. После отказа Алексеем продолжить службу в его подразделении, комбат предложил дождаться особого отдела, который, разобравшись в ситуации, решить его судьбу.
Догадывался ли Алексей о том, какая судьба его ждёт? Скорее да, чем нет. Но это будет уже завтра или послезавтра.
А послезавтра Ваня видел своего старшего брата последний раз. Алексею «повезло», если так можно в этом случае выразиться, что он сам пришёл с явкой и многие факты, после проверка по каналам особого отдела, подтвердились. И потому, одним из самых страшных преступлений, по словам капитана государственной безопасности было то, что Алексей «избавился» от партбилета.
Приговор был, что гром, среди ясного неба – «восемь лет лишения свободы, без права переписки».
***
Второй год Иван Прасол заведовал избой-читальней. Если изначально было кое у кого опасение, что не справится, ребёнок-то ещё. А теперь уже скоро исполнится 17 лет. И работа ладится и зиму пережили. И в результате Белорусской наступательной операции лета 1944 года, Красная армия вышла на рубежи довоенной границы СССР.
Семья получила весточку, что Алексей Фёдорович пропал без вести, без подробных объяснений, где, когда и при каких обстоятельствах. Осталось только догадываться, что скорее всего, он участвовал в боевых подразделениях штрафбата, где и потерялась, только что появившаяся ниточка его судьбы.
Иван, рождённый в конце июля, ожидал призыва в армию, так как призывали теперь с 17 лет. И, хоть у него были ограничения, но на военное время это ограничение по состоянию здоровья не действовало.
Возвращались фронтовики, списанные по ранению и инвалидности, безрукие, безногие и по других показаниям. Продолжали приходить и похоронки, а кому-то и такие же извещения, с формулировкой «пропал без вести». Редко какую хату миновала беда, у кого-то не стало хозяина семейства, у кого-то сына и не одного. Но, несмотря ни на что, общий настрой был более-менее позитивный. Красная армия гнала врага и итог войны был давно известен, оставались считанные месяцы. Но они стоили десятков и сотен солдат, освобождавших восточную Европу от «коричневой чумы».
Те селяне, которые знали, хотя бы в общих чертах, о той трагической случайности, которая приключилась со старшим братом избача, старались не затрагивать эту больную тему. Да и в каждой семье были свои трагедии, с которыми нужно было просто смириться и жить дальше. Село жило одной болью, которую им в один момент преподнесла война и лишь в дополнении к общей боли, в разные моменты пронзала сердца тех или иных ещё и личной болью, которая сливалась так или иначе в общий котёл и переносилась людьми от поколения к поколению. Одним из «обменных пунктов» и была изба-читальня – информационный, культурный и духовный центр жизни села. Церкви-то в селе не было. Ближайшая находилась более, чем в 15 км и не каждый мог посетить и отстоять службу, поставить свечи за родных и близких, чтобы Господь их хранил, за воинов-освободителей русской земли от фашистской нечисти, и поставить свечи за упокой душ убиенных.