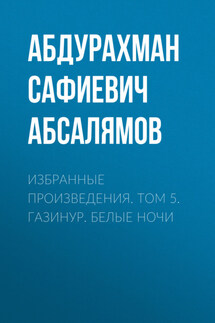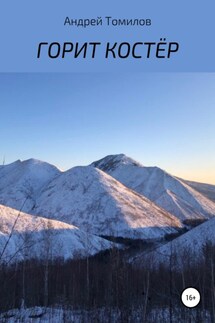Избранные произведения. Том 3 - страница 24
Галиму было одновременно тяжело и жалко, что отец терзался по его вине, он порывался и всё же не мог заставить себя рассказать отцу всё то, что он перечувствовал и передумал за последние дни, оценивая по совести свои поступки, отгородившие его от коллектива.
– Когда будет общее собрание? – спросил Рахим-абзы после долгого молчания.
– На днях.
– А если тебя исключат из комсомола, что будешь делать? Думал об этом?
Галим потупил голову.
– Разве можно шутить такими серьёзными вещами, как товарищество, комсомольская дружба? Эх, Галим, Галим! Вспомни, народ-то что говорит: одно полено и в печке не горит, а два и в степи не погаснут! Я так верил в тебя… Даже не поделился со мной. Утаил от отца.
Галим не нашёл что сказать, но в его круглых, широко, по-отцовски, расставленных глазах светилось искреннее чувство самоосуждения, и Рахим-абзы понял, что разговор не пройдёт впустую.
8
Накануне комсомольского собрания Мунире снова стало хуже.
– Ты меня не уговаривай, я всё равно пойду, – сказала Мунира пришедшей навестить её Тане. – Я ведь тогда, на лестнице, погорячилась, сказала лишнее, подлила масла в огонь. И скажу об этом.
– Но ведь ты же сама говорила, что сердита на него.
– Это другое дело. Я и сейчас на него зла. Но некоторые предлагают как минимум исключить его из комсомола.
Увлечённые разговором, девушки не слышали, как вошла Суфия-ханум.
– Мунира, радость, телеграмма!..
– От папы? Давай скорее.
Одним дыханием Мунира прочла: «Здоровье улучшается ждите письмо целую тебя Муниру Мансур».
Мунира уткнулась в телеграфный бланк, целуя его.
– Папа жив! Мамочка, милая!
Мать и дочь улыбались друг другу сквозь слёзы облегчения.
– Мама, а может, тебе слетать к папе?
– Полечу, полечу, – глядя вдаль, отвечала Суфия-ханум, словно не Мунире, а своим мыслям.
Когда Мунира вошла в зал, собрание уже началось. Она села между Наилем и Хаджар. Ляля кивнула ей из президиума. Мунира отыскала глазами Галима, – он забился в угол.
Секретарь комсомольского комитета Зюбаиров знакомил собрание с «делом» Урманова.
– Товарищи, – сказал он в заключение, – только недавно пленум ЦК ВЛКСМ потребовал, чтобы комсомольцы в учёбе, как и в общественной работе, были примером для несоюзной молодёжи. Ленинский комсомол с честью выполняет это решение. Но есть у нас ещё отдельные комсомольцы, относящиеся к своему званию безответственно. Два дня назад мы разбирали на заседании комитета дело комсомольца Галима Урманова, сейчас известное всем вам. У членов комитета осталось впечатление, что Урманов не полностью сознаёт свою вину. Поэтому мы вынесли его вопрос на обсуждение общего собрания.
Казалось, в речи секретаря для Галима не было ничего нового. Почти те же слова он слышал от него и на комитете. Тем не менее Урманова охватило столь мучительное, причинявшее почти физическую боль, чувство, какого он в жизни ещё не испытывал.
Не раз Галим участвовал в рассмотрении так называемых конфликтных дел комсомольцев, однажды он голосовал за исключение из рядов комсомола. Но тогда Галим не думал, что разбор личного дела на собрании может так сильно потрясти человека.
Хафиз Гайнуллин предоставил слово Урманову.
Став потемневшим лицом к собравшимся, он смотрел на товарищей, болезненно ловя на себе их осуждающие взгляды.
Сгорая от стыда, он не готовился к речи, не подбирал заранее фраз.
– Не знаю, как это получилось… Я люблю шахматы. В город приехал мастер. Мне захотелось сыграть с ним. Ну, возомнил о себе… – Он говорил хрипло, отрывисто, с напряжёнными паузами.