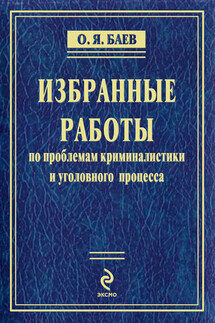Избранные работы по проблемам криминалистики и уголовного процесса (сборник) - страница 129
– формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления об осведомленности следователя относительно целей, которые они преследуют;
– формирование у подследственного ошибочного представления о неосведомленности следователя относительно ложности выдвинутых объяснений и представленных доказательств;
– формирование у заинтересованного лица намерения воспользоваться негодными средствами противодействия расследованию[193].
Эти варианты применения средств убеждения посредством маневрирования информацией в плане «следственных хитростей» и конкретные приемы их реализации неоднократно анализировались в литературе, причем их нравственная допустимость оценивалась весьма различно[194]. Это вполне естественно в научной дискуссии. Однако, к сожалению, в отдельных работах глубина исследования подменялась «чистым» морализированием под углом зрения их авторов на проблемы морали и судебной этики. На наш взгляд, изучение подобных приемов должно вестись с иных позиций – с позиций достаточно определенно и четко выработанных в настоящее время критериев допустимости тактических средств в целом.
Мы считаем, что в принципе подобные приемы правомерны и допустимы: они не содержат в себе обмана или насилия, предоставляют субъекту, на которого воздействуют, свободу в выборе им линии своего поведения и никоим образом не могут привести к оговору невиновного лица или к самооговору.
Для подтверждения сказанного рассмотрим лишь один пример из практики применения приема убеждения, основанного на создании преувеличенного представления об объеме имеющихся у следователя доказательств. Наш выбор примера для иллюстрации вызван тем, что именно эта группа «следственных хитростей» вызывает наиболее резкую критику противников их допустимости[195].
В ходе расследования крупного хищения следователю предстояло допросить кладовщика, подозреваемого в совершении этого преступления. В значительной мере случайно среди массы документов удалось обнаружить семь накладных с дописками, что было подтверждено экспертизой. Общая сумма ценностей, похищенных по этим документам, составляла всего 42 рубля. Поиск других накладных занял бы чрезвычайно много времени и сил и не обязательно увенчался бы успехом. Следователь использовал следующий тактический прием. Он сложил стопкой накладные таким образом, чтобы сверху лежали семь, имеющих дописки, ниже несколько десятков самых ординарных. В ходе допроса следователь предъявлял кладовщику взятую сверху накладную, объяснял, что она имеет дописку, говорил о сумме которая таким образом похищена, и переходил к следующей. У кладовщика возражений по этим документам не могло быть, и он эти эпизоды хищения признавал. После третьей накладной следователь спросил у кладовщика, не имеет ли он намерений дальше рассказать сам о всех совершенных им хищениях. Кладовщик отказался, после чего следователь, не настаивая, продолжал предъявлять накладные. После шестой накладной кладовщик прервал следователя и рассказал о том, как он на протяжении длительного времени занимался хищениями. После этого уже с помощью кладовщика были изъяты и исследованы многие сотни подложных документов[196].
Думается, что в подобном приеме убеждения, несомненно являющемся «хитростью», нельзя усмотреть какого-либо нарушения законности или нравственной допустимости.
Конец ознакомительного фрагмента.
Если вам понравилась книга, поддержите автора, купив полную версию по ссылке ниже.
Продолжить чтение