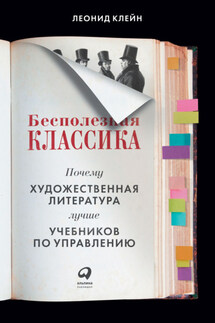Измеряя мир - страница 15
Под вечер, изнемогая от жажды, они добрались до садов Оратавы. Гумбольдт не мог оторвать глаз от растений тропического мира. Вид косматого паука, гревшегося на солнышке на стволе пальмы, наполнил его душу ужасом счастья. А потом он увидел драконово дерево.
Он обернулся, но Бонплан куда-то исчез. Дерево было гигантским, оно насчитывало, должно быть, несколько тысяч лет. Оно росло здесь еще до испанцев и до аборигенов. Стояло здесь еще до Христа и Будды, Платона и Тамерлана. Гумбольдт поднес к уху часы. Как они, тикая, хранили в себе время, так это дерево отражало его натиск: временной поток разбивался о него, как о скалу. Гумбольдт потрогал потрескавшуюся кору. Где-то далеко вверху разбегались в разные стороны ветви, голоса сотен птиц наполнили воздух. С нежностью провел он рукой по древесным морщинам. Всё стало тленом – люди, звери, все-все. Все, кроме него одного. Он прижался щекой к дереву, потом отпрянул, озираясь: не видел ли его кто-нибудь. Быстро вытер слезы и отправился на поиски Бонплана.
Француз? Рыбак у причала показал рукой в сторону деревянной хибары.
Гумбольдт открыл дверь и увидел голую спину Бонплана, склонившуюся над голой коричневой женщиной. Он захлопнул дверь и припустил на корабль. И не подумал остановиться, заслышав, как сзади его бегом догоняет Бонплан; не сбавил он шага и когда тот, поравнявшись с ним, с переброшенной через плечо рубашкой, со штанами в руках, стал просить у товарища прощения.
Гумбольдт заявил, что если еще раз случится что-нибудь подобное, он будет считать их сотрудничество прекращенным.
Да ладно уж, тяжело дыша, оправдывался Бонплан, напяливая на ходу рубашку. Ну, приспичит иной раз человеку, разве это так трудно понять? Ведь и Гумбольдт мужчина!
В ответ Гумбольдт призвал его помнить о той, с которой помолвлен.
Да нет у него никого, сказал Бонплан, влезая в штаны. Ни с кем он не помолвлен!
Человек – не животное, заметил Гумбольдт.
Ну, не всегда, возразил Бонплан.
Гумбольдт спросил, доводилось ли ему читать Канта.
Французы иностранцев не читают.
Он не намерен дискутировать на эту тему, сказал Гумбольдт. Еще раз что-нибудь подобное, и пути их разойдутся. Бонплан способен это понять?
Боже правый, простонал Бонплан.
Способен ли он это понять?
Застегивая штаны, Бонплан пробормотал что-то невразумительное.
Несколькими днями позже корабль пересек тропик. Гумбольдт отложил в сторону рыбу, плавательный пузырь которой он как раз рассекал при тусклом свете коптилки, и перевел взгляд на четко очерченные звезды Южного Креста. Созвездия нового полушария, лишь отчасти вошедшие в атласы. Другая сторона Земли и неба.
Неожиданно они попали в стаю моллюсков. Встречное движение их красных масс заставило корабль пятиться. Бонплан выудил парочку этих созданий. И почувствовал себя как-то странно, по собственному признанию. Что-то тут не так, сказал он.
На другое утро на судне началась лихорадка. В трюме стояла жуткая вонь, по ночам стонали больные, даже наверху, на палубе, держался запах рвоты. Корабельный врач не захватил с собой хинин: все это, мол, только веяния моды, кровопускание – вот испытанная метода! Молодой матрос из Барселоны истек кровью при третьей попытке. Другой, в бреду, вообразил себя птицей, стал махать руками, как крыльями, свалился за борт и чуть было не утонул; спасли его, вовремя спустив шлюпку. Бонплан валялся на своей койке, попивал горячий, обжигающий губы ром, и не был пригоден для какой-либо работы; а тем временем Гумбольдт, взрезав оба моллюска, исследовал их под микроскопом; кроме того, каждые четверть часа он измерял давление воздуха, температуру воды и фиксировал окрашенность неба, а каждые полчаса спускал в воду свинцовый лот и заносил результаты измерений в толстый судовой журнал. Как раз теперь, говорил он задыхающемуся Бонплану, нельзя позволять себе никакую слабость. Работа всему помощник. Цифры справятся с хаосом. Даже с лихорадкой.